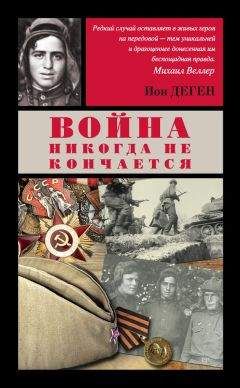По такому же методу воспитывали патриотизм в 21-м УТП. От голода разве что не пухли. А ветераны, поступавшие из госпиталей, рассказывали, что на фронте погибают, конечно, но не от голода.
В тот вечер в тускло освещенной столовой, давясь от отвращения, я ел какое-то варево из немолотой заплесневевшей кукурузы. Стол, хотя его слегка поскоблили перед ужином, казался покрытым блевотиной.
Я увидел его в толпе "закрывающих амбразуру своим телом". Так называли несчастных, клянчивших у окна раздачи добавку этого кукурузного говна. Его нельзя было не заметить. В толпе попрошаек он выглядел как удод среди воробьев. Темно-золотой чуб выбился из-под танкошлема, нависая над правым глазом. Большой красивый нос. Четко очерченные полные губы, рвущиеся в улыбку. А главное - глаза! Черные-черные. С этаким воровским прищуром. Ресницы густые, длинные, шелковистые. И ощущение - подкинь сейчас помдеж полмиски тухлой кукурузы, этот парень отколет такую чечотку, что мрачная столовая превратится в праздничный зал.
Определенно, я где-то встречал этого танкиста. Но где? Он отошел от окна раздачи, матюкаясь, и недовольно посмотрел на меня, свидетеля его бессмысленного позора.
- Славянин, где это я встречал тебя?
Ресницы описали дугу, окидывая меня взглядом с ног до головы.
- Не, я тебя не встречал.
Разговорились. Стали задавать друг другу вопросы. Выяснилось, что воевали мы в разных частях. В госпиталях тоже не могли встретиться. Откуда же так знакомо мне его лицо?
- А родом ты откуда будешь? -спросил он.
Я ответил.
- Не, не бывал я в твоих краях.
- А ты откуда?
- Терский я казак. Из Муртазово. Слыхал такое?
- Муртазово? Сторожка на южном переезде?
Как током хлестнуло его. Глаза распахнулись, стали огромными.
- Привет тебе, Александр, от мамы. Я был у нее в октябре.
- Как это в октябре? Немцы-то ведь заняли Муртазово в сентябре?
Вырвавшись из вони столовой в мокрую темноту Шулавери, я рассказал ему, слушавшему с затаенным дыханием, что случилось со мной три месяца назад по ту сторону Кавказского хребта.
Задание сперва казалось не очень сложным: добраться до станции Муртазово и установить связь с партизанским отрядом, вернее, с подразделением НКВД, оставленным в немецком тылу. И только. По занятой противником территории предстояло пройти не более десяти километров. А местность мы знали, как свою ладонь - только недавно отступили оттуда.
Как и обычно, пошел со мной Степан Лагутин, молчаливый алтайский охотник. При весе более ста двадцати килограммов и двухметровом росте он мог бесшумно пройти по хворосту. Юркий вороватый Гутеев сам напросился на это задание. Четвертой пошла Люба с новенькой английской радиостанцией, поступившей к нам через Иран.
В черной темноте, угадывая напряженно следившие за мной глаза, я ни словом не упомянул о том, что Люба была моей недосягаемой звездой, моей мукой. Она была невероятно красивой. Во всяком случае, такой она мне казалась. Ей уже исполнилось восемнадцать лет, и я, вероятно, казался ей пацаном. Положение командира не позволяло мне даже ненароком открыть клокотавшие во мне чувства. Капитан Жук назвал меня собакой на сене, когда однажды я чуть не пристрелил его, увидев, как он повалил Любу на гальку железнодорожной насыпи.
Не рассказал я, что, пробираясь по немецким тылам, я испытывал мальчишескую гордость, демонстрируя Любе свою храбрость, и одновременно взрослую не по годам тревогу за ее жизнь. Но именно эта непроизнесенная часть рассказа оказалась музыкальным ключем, определивших тональность наших
взаимоотношений с Александром в будущем.
Сейчас я просто излагал факты. Без эмоций. Без комментариев.
В три часа утра мы вышли к южному переезду. Было темно. Но, притаившись в мокрых кустах, мы видели сторожку, и переезд, и даже слегка поблескивавшие железнодорожные пути.
Около четырех часов по переезду прошел немецкий патруль и растаял в темноте по пути к вокзалу.
Ребята остались в кустах для прикрытия, а я одним броском оказался у двери сторожки и тихо пробарабанил по стеклу условный сигнал. Дверь почти тут же отворилась, и меня втянули в непроницаемую темноту.
Вспыхнувшая спичка осветила лицо пожилой женщины, лет сорока примерно. Я испуганно посмотрел на окно, но тут же успокоился, увидев, что оно завешено старым байковым одеялом.
Женщина зажгла свечку в кондукторском фонаре и осмотрела меня.
- Хлопчыку, так ты же еще совсем хлопчык! И до чего же ты похож на мого Сашу!
Четко я изложил ей задание. Женщина молча кивнула, взяла фонарь и скрылась в подвале. Появилась она оттуда с глечиком сметаны. Я наотрез отказался от еды, объяснив ей, что в кустах меня ждут товарищи.
- Добре. Возьмешь глечик с собой.
Александр, подозрительным сопением реагируя на знакомые ему подробности, застонал при упоминании глечика со сметаной.
Мы договорились о встрече со связным партизанского отряда. Можно было уходить. Женщина снова осветила мое лицо фонарем, повздыхала и подвела меня к большой раме со множеством фотографий. Были тут казаки с лихо закрученными усами, напряженно положившими руки на плечи сидящих женщин, и опирающиеся на эфесы сабель, и молодая пара, обнимавшая понятливую голову лошади, и еще множество. Но женщина показала на полуоткрытку, с которой смотрел мальчишка с наглыми прищуренными глазами, с большим, но красивым носом и чубом, лихо нависающим над правым глазом.
- Сыночек мой, Александр. И до чего же ты похож на него, хлопчику!
Трудно было понять, как я могу быть похожим на этого красивого парня. Но я не стал возражать старой женщине.
Увидел я ее еще раз вечером, когда она привела в заросли на берегу Терека связного из партизанского отряда. Вот, собственно, и все.
Александр не пререставал задавать вопросы. А что я мог ему поведать? Ведь после уже не было ни сторожки, ни фотографий, ни переезда. После была непрерывная цепь ошибок и несчастий. И все по моей вине.
Еще до подхода к переднему краю в тесной долине, примыкающей к Тереку, там, где вчера ночью мы относительно легко пробрались мимо редких немецких постов, сейчас все было забито танками, тягачами, орудиями, грузовиками.
Необходимо было снять двух часовых, чтобы проскользнуть у самой кромки воды. В темноте мы подползли к ним почти вплотную. Степан и я вскочили одновременно. Он схватил своими лапищами немца за горло так, что тот не успел издать ни единого звука. В то же мгновение я всадил кинжал сверху вниз над левой ключицей второго немца. Кинжал погрузился по самую рукоятку. Фонтан липкой крови брызнул мне в лицо. Меня стошнило и я начал рвать. Степан бросил бездыханного немца и закрыл мне рот своей огромной рукой. Но было поздно. Немцы услышали, как я блюю. Нас окликнули.