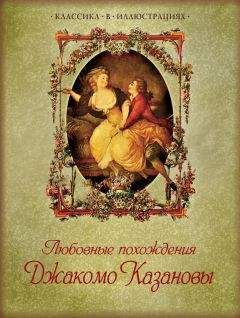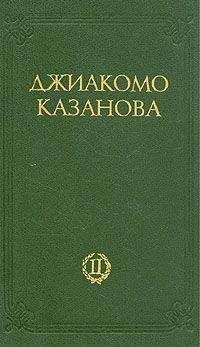– Нет, но я считаю себя укрепленным могуществом Святой Троицы и моим саном.
– Если ты такой могущественный, попробуй помешать мне сказать всю правду о тебе. Ты горд своей бородой, ты расчесываешь ее раз по десять на дню, захочешь ли ты убавить ее наполовину, чтобы заставить меня покинуть это тело? Отрежь бороду – и, клянусь, я выйду.
– Князь тьмы, я удваиваю тебе наказание!
– Плевала я на тебя!
За этими словами Беттина так расхохоталась, что я не удержался и прыснул со смеху. Капуцин, заметив меня, сказал доктору, что мне недостает веры и потому меня надо удалить. Я был вынужден подчиниться, но еще успел получить удовольствие, видя, как капуцин протягивает Беттине руку для поцелуя, а она смачно на нее плюет.
Так это непостижимое, столь одаренное создание посрамило капуцина, что, впрочем, никого не удивило, поелику всем было ясно, что за нее говорил дьявол. А я так и не понял, что за надобность была у нее устраивать все это.
После обеда, в течение которого капуцин наговорил сотню глупостей, он вернулся в комнату одержимой, чтобы дать ей благословение, но та запустила в него стаканом, наполненным черным снадобьем, данным ей аптекарем. <…> Перед уходом отец Просперо объявил доктору, что девица безусловно одержима дьяволом и что нужно сыскать другого заклинателя, поелику Бог не дал ему силы освободить ее.
После его ухода Беттина провела шесть часов совершенно спокойно и радостно удивила нас появлением за вечерним столом. Она уверила родителей и брата, что чувствует себя отлично, а затем обратилась ко мне и напомнила, что назавтра бал, а потому с утра она придет ко мне, чтобы причесать меня под девочку. Я поблагодарил и ответил, что она слишком больна и ей надо беречься. Вскоре она отправилась спать, а мы остались за столом еще некоторое время и говорили только о ней.
Придя к себе, я обнаружил под своим ночным колпаком записку следующего содержания: «Или Вы, одевшись девочкой, отправитесь со мной на бал, или я Вам устрою такой спектакль, что Вы пожалеете».
Дождавшись, пока доктор уснет, я приготовил ей ответ: «Я не пойду на бал, так как я решил избегать всякой возможности остаться с Вами наедине. Что же касается спектакля, которым Вы мне грозите, то, зная Ваши дарования, не сомневаюсь, что Вы сдержите слово. Но я прошу Вас пощадить мое сердце, ибо я люблю Вас, как любил бы сестру. Я простил Вас, дорогая Беттина, и хочу все забыть». <…>
Ум этой девушки заслужил мое уважение: я не мог больше ее презирать. <…> Так же, как она любила меня впоследствии без всяких ухищрений, так и я нежно любил ее, никогда не пытаясь сорвать цветок, который предрассудки предписывали хранить до брака. Но какого печального брака! Двумя годами позже Беттину выдали замуж за башмачника Пигоццо, отвратительного мошенника, с которым жила она в нужде и была несчастлива; доктор, ее брат, был принужден принять заботы о ней на себя. Еще через пятнадцать лет, избранный архиереем в Сан-Джорджо Делавалеа, добрый доктор взял ее с собой, и, когда много лет спустя я приехал повидать его после долгой разлуки, я встретил там Беттину – дряхлую, больную, умирающую. Она испустила дух у меня на глазах в 1776 году, на следующий день после моего приезда к ним. <…>
Примерно в это же время моя матушка вернулась из Петербурга, где императрице Анне Иоанновне итальянская комедия пришлась не по вкусу. Через полгода она вызвала меня в Венецию повидаться перед отъездом в Дрезден. Она получила пожизненный ангажемент при дворе курфюрста Саксонского Августа III, короля Польши. <…>
После этого я провел еще год в Падуе, изучая право, доктором которого я стал в шестнадцать лет[21]. По гражданскому праву у меня была тема «de testamentis»[22], а по каноническому – «Utrum hebrei possint construere novas Synagogas»[23].
Мне хотелось обучаться медицине, к ней я чувствовал неодолимую тягу, но меня не слушали: хотели, чтобы я занимался юриспруденцией, а к ней я испытывал непреодолимое отвращение. Вполне естественно, что я не стал ни юристом, ни врачом. Возможно, этим объясняется моя привычка никогда не прибегать к услугам адвокатов при отстаивании своих законных претензий перед правосудием и не звать врача, когда я заболевал. Семейств, разоренных законниками, куда больше тех, кому они помогли, а принявшие смерть из рук врачей бесчисленны в сравнении с теми, кого они вылечили. Разве это не доказательство того, что мир был бы гораздо счастливее как без тех, так и без других?
На лекции университетских профессоров нельзя было ходить в сопровождении, и я впервые стал появляться на людях один. Это было удивительное ощущение: до сих пор я никогда не чувствовал себя свободным, и, желая вполне насладиться неожиданной волей, я немедля завел дурные знакомства среди студентов, кои были отъявленными шалопаями, бабниками, игроками, завсегдатаями притонов, выпивохами, гуляками, обманщиками, развратителями порядочных девушек, словом, ни один из них не был обременен добродетелями. В обществе подобных людей начал я узнавать мир, изучать великую книгу жизни.
Он чувствует, что его истинная профессия – не иметь никакой профессии, слегка коснуться всех ремесел и наук и снова, подобно актеру, менять костюмы и роли. Зачем же прочно устраиваться: ведь он не хочет что нибудь иметь и хранить, кем-то прослыть или чем-то владеть, ибо он хочет прожить не одну жизнь, а вместить в своем существовании сотню жизней, – этого требует его бешеная страстность.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»
Зажив по-новому и желая выглядеть не беднее своих новых товарищей, я пустился во все тяжкие. Я продал и заложил все, что можно, и все-таки влез в долги, которые не мог отдать. Так я впервые испытал на себе безденежье – самую острую беду для молодого человека, стремящегося к жизни на широкую ногу. В отчаянии написал я бабушке, умоляя ее о помощи. Она оказала мне ее, но не тем путем, на который я рассчитывал: она просто приехала в Падую и 1 октября 1739 года, горячо поблагодарив доктора и Беттину за все заботы обо мне, увезла меня в Венецию.
На прощание доктор прослезился и подарил мне очень ценную для него вещь: частичку мощей не помню какого святого. Эта реликвия и сейчас была бы со мной, не окажись она оправленной в золото. И все-таки и таким путем она сотворила чудо, выручив меня в минуту тяжелой нужды.
Всегда, когда я приезжал в Падую для своих занятий правом, я останавливался у моего добрейшего учителя. И всегда огорчался, видя рядом с Беттиной тупицу, данного ей в мужья, которому она никак не подходила. И клял предрассудок, заставивший меня сохранить для него нетронутым тот цветок, который я так легко мог когда-то сорвать.