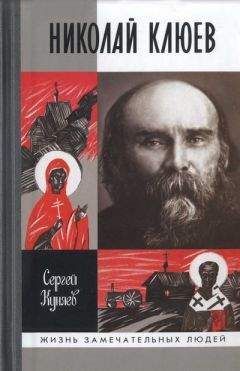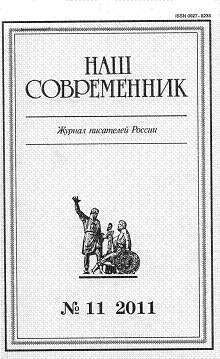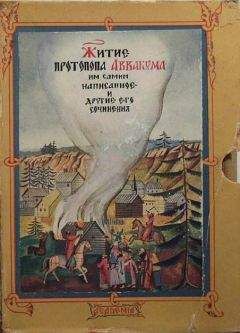Вериги я на себе тогда носил девятифунтовые, по числу 9 небес, не тех, что видел ап<остол> Павел, а других. Без 400 земных поклонов дня не кончал. Икона Спасова в углу келейном от свечи да от молитвы словно бархатом перекрылась, казалась мягкой, живой. А солнышко плясало на озере, мешало золотой мутовкой озёрную сметану, и явно виделось, как преп<одобный> Герман кадит кацеёй по берёзовым перелескам.
Люди приходили ко мне, пахло от них миром мирским, нудой житейской… Кланялись мне в ноги, руки целовали, а я плакал, глядя на них, на их плен чёрный, и каждому давал по сосновой шишке в память о лебединой Соловецкой земле».
«Девять небес», о которых говорит Клюев, — девять чинов ангельских, девять ступеней иерархии ангельских существ по учению Псевдо-Дионисия Ареопагита. Эта иерархия образует три триады по степени близости к Богу: 1) херувимы, серафимы, престолы; 2) господства, силы, власти; 3) начала, архангелы, ангелы (и эти три триады позже воплотятся в его «Песни Солнценосца»), Первая триада — в непосредственной близости к Господу. Вторая — отражение принципа божественного мировладычества. Третья — в непосредственной близости к миру и человеку…
А о Соловецкой обители поэт вспомнит уже в середине 1920-х годов, когда на святом месте расположится знаменитый СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения, когда новомученики российские кровью окропят землю, помнящую святых Зосиму и Савватия.
Распрекрасный остров Соловецкий,
Лебединая Секир-гора,
Где церквушка, рубленная клецки, —
Облачному ангелу сестра.
Где учился я по кожаной триоди
Дум прибою, слов колоколам,
Величавой северной природе
Трепетно моляся по ночам…
Где впервые пономарь Авива
Мне поведал хвойным шепотком,
Как лепечет травка, плачет ива
Над осенним розовым Христом.
И Феодора — строителя пустыни,
Как лесную речку помяну,
Он убит и в лёгкой /белой с/кр/ы/не
Поднят чайками в голубизну…
Помнят смирноглазые олени,
Как, доев морошку и кору,
К палачам своим отец Парфений
Из избушки вышел поутру,
Он рассечен саблями на части
И лесным пушистым глухарём
Улетел от бурь и от ненастий
С бирюзовой печью в новый дом…
………………………………
Триста старцев и семьсот собратий
Брошены зубастым валунам.
Преподобные Изосим и Савватий
С кацеями бродят по волнам…
* * *
Под клюевский рассказ о Соловках можно заснуть сказочным сном, не желая просыпаться. Это не столько жизнь — сколько житие. Соблазн, конечно, есть — попытаться, используя «косвенные данные», «разоблачить» поэта. Но благодарному слушателю воздастся большим.
Иона Брихничёв — личность чрезвычайно мутная, но значимая в ранней биографии Клюева — спустя десять лет после ухода Николая из монастыря так писал о клюевском «Соловецком сидении»: «Совсем юным, молоденьким и чистеньким попадает поэт в качестве послушника в Соловецкий монастырь, где и проводит несколько лет. Но что выносит он среди грубых, беспросветно грубых и развратных монахов — об этом я здесь умолчу». Писал он это с клюевских слов, по-своему их неизбежно переиначивая и разукрашивая и, возможно, искажая смысл. Вроде бы становится понятным «отселение» Николая из кельи в «избушку у озера» — неизбежно, с благословения старца Зосимы, а возможно, и по его прямому настоянию. Но причина всё же не в «монахах», а в особом пути молодого послушника, провиденного старцем. Верижное правило, молитвы, поклонное правило — всё истово соблюдает Николай, достигая такой полноты в духе, что звери без страха посещают его и приходят паломники на душеспасительные беседы с благоговейными поклонами. Только абсолютное духовное совершенство позволяло не впасть в прельщение. И, очевидно, он этого испытания не выдержал.
Очевидно, этому способствовал главный соблазн дальнейшей клюевской жизни — соблазн стихописания, о котором сам Клюев в 1922 году рассказывал Павлу Медведеву. «Свою поэзию определяет: „Песенный Спас“, — записывал Медведев. — Учился ей у Петра Леонтьева, который в „чёрной тюрьме“ в Соловках 18 лет просидел за церковь Михаила Архангела: 3? года Клюев у него спасался». «Спасался» Клюев, конечно, не у сектанта и общался с ним не столь уж продолжительное время. Леонтьев, заключённый в соловецкую монастырскую тюрьму (упразднённую в 1902 году), видимо, вёл беседы с молодым послушником, рассказывая ему о песнопевцах своей секты и напевая их гимны. Песенный дар в конце концов возьмёт верх над даром проповедника. Но пока это лишь первые сомнения в правильности избранного пути.
Возможно, Николаю с его проповедническим даром и приобщением к неземным энергиям был действительно уготован путь духовного наставника, старца нового столетия, наподобие блаженной памяти Серафима Саровского. Слава о нём уже ходила среди людей — и не могли не найтись те, кто желал бы сбить его с пути истинного, лишить Россию зарождавшегося духовного вождя. Стремление к дальнейшему духовному совершенству — при юношеской внутренней неустойчивости и чувстве обольщения собственным даром и достигнутыми свершениями — всё это вскоре сыграло роковую роль. Однажды среди паломников появился человек, который завёл с Николаем совершенно иные речи.
«Раз под листопад пришёл ко мне старец с Афона в седине и ризах преподобнических, стал укором укорять меня, что не на правом я пути, что мне нужно во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть.
Поведал мне про дальние персидские земли, где серафимы с человеками брашно делят и — многие другие тайны бабидов и христов персидских, духовидцев, пророков и братьев Розы и Креста на Руси.
Старец снял с меня вериги и бросил в озёрный омут, а вместо креста нательного надел на меня образок из чёрного агата; по камню был вырезан треугольник и надпись, насколько я помню — „Шамаим“, и ещё что-то другое, чего я разобрать и понять в то время не мог.
Старец снял с себя рубашку, вынул из котомки портки и кафтанец лёгонький, и белую скуфейку, обрядил меня и тем же вечером привёл на пароход как приезжего богомольца-обетника».
Слишком много здесь сказано, но ещё больше — о чём можно лишь догадываться — осталось в подтексте. Трудно судить, насколько точно Николай Архипов записал слова Николая Клюева (уже то, что «старец» снимает «с себя» рубашку, а потом обряжает Николая в новину, вынуждает прочесть «с себя», как «с меня», если не иметь в виду, что Клюев обряжается в рубашку своего нового наставника), а самое главное, — насколько точен был и насколько «путал след» сам Клюев.