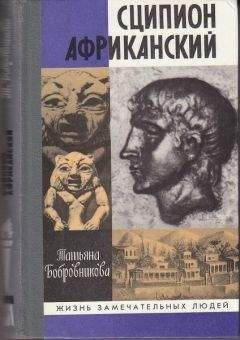Другой чертой его, которую признавали все, была чрезмерная жестокость (Polyb., IX, 26, 8; 22, 8). В глазах людей он был виновником чудовищных преступлений, совершенных в Италии. О его свирепости ходили какие-то страшные слухи; в этих рассказах было что-то жуткое, потустороннее, словно это был не человек, одержимый идеей, а некий воплощенный демон, существо не нашего мира. Так, говорили, что он заваливал рвы телами пленных и его воины проходили по этим живым мостам; что он закапывал людей в землю по пояс, а вокруг раскладывал огонь (Cat. Or. frg. 193); что он и его сподвижники ели человеческое мясо. С этой нечестивой пищей он будто бы связывал победу над римлянами. Видимо, в основу этих слухов легли какие-то реальные события, ибо даже такой рационалист, как Полибий, не отрицает самого факта. Быть может, Ганнибал и его воины принесли какую-то страшную клятву ненависти к Риму, воззвали к подземным богам и скрепили верность человеческой жертвой, мяса и крови которой вкусили. Может быть, это был какой-то жестокий религиозный обряд, карфагенский или иберский. Но Полибий склонен был толковать все это рационалистически. Он говорит, что один из друзей Ганнибала, славившийся особенной жестокостью, посоветовал ему самому и воинам привыкнуть питаться человеческим мясом, так как без этого ему не покорить Рим. Ганнибалу это предложение очень понравилось, но он все-таки, как ни старался, не мог есть человечину (Polyb., IX, 24). Этот же друг, по словам Полибия, был вдохновителем большинства совершенных в Италии злодеяний. Поэтому историк склонен оправдывать Ганнибала тяжелыми обстоятельствами и советами злых друзей.
Зато, к сожалению, слишком верно, что он был чрезмерно алчен, даже для карфагенянина. Полибий считает это тяжким его пороком. Он сообщает любопытный рассказ: «Говорят также, что Ганнибал был чрезмерно корыстолюбив и был в дружбе с корыстолюбивым Магоном… Сведения эти я получил от самих карфагенян… С большими еще подробностями я слышал это от Масиниссы,[21] который много рассказывал мне о карфагенянах вообще, наиболее о корыстолюбии Ганнибала и Магона… Между прочим Масинисса говорил о величайшей нежности, какой отличались их совместные отношения с ранней юности, о том, сколько городов в Италии и Иберии завоевал каждый из них… но при этом они ни разу не участвовали в одном и том же деле и всегда старались перехитрить друг друга больше даже, чем неприятеля, чтобы только не встречаться при взятии города во избежание ссоры из-за дележа добычи, ибо каждый из них желал получить больше другого» (Polyb., IX, 25).
Но образ Ганнибала как-то расплывается у Полибия. Он ему чужд и непонятен, этот мрачный пуниец. «Нелегко судить о характере Ганнибала, — заключает он свою характеристику, — …достаточно того, что у карфагенян он прослыл за корыстолюбца, а у римлян за жестокосердного» (Polyb., IX, 26, 10).
Итак, Ганнибал был выбран главнокомандующим в Иберии. Все у него было готово к войне. Но что же все это время делали римляне? Как могли они допустить такое усиление своего смертельного врага? Я полагаю, это объясняется взглядами и настроениями тогдашних правителей города, которые твердо держались принципа, что надо защищать свое и не лезть в чужое. Иберия же была далеко, и они успокоили себя мыслью, что война там — это частное дело Карфагена, а сами занялись своими домашними делами, а именно, мелкими стычками с галлами.
Ганнибал завоевал уже всю Испанию, и тут римляне почувствовали легкое беспокойство. Они не хотели мешать пунийцам, вовсе нет, но им нужно было обезопасить себя. С пунийцами был заключен договор, что они не выйдут за пределы Иберийского полуострова. Кроме варваров, в Иберии были древние колонии, основанные финикийцами и греками. Эти народы, как везде и всегда, ненавидели друг друга. Естественно, финикийцы поддерживали карфагенян, а греки — римлян. Одной из древних эллинских колоний был город Закинф или Сагунт. С Римом его связывал союз дружбы. Закинфяне с ужасом глядели на усиление своих заклятых врагов пунийцев. Они слали в Рим посольство за посольством, умоляя внять их предостережениям и осознать наконец, какая страшная опасность угрожает и их городу, и Риму. Напрасно. Римляне не хотели войны и не обращали внимания на просьбы закинфян. Но наконец даже они не могли более оставаться безучастными и послали к Ганнибалу послов с просьбой не тревожить Сагунта. Из этих переговоров, разумеется, ровно ничего не вышло. Ганнибал «был исполнен в то время безумного, порывистого гнева» (Полибий). Он встретил римлян так, что те поспешили уехать. Они отплыли в Карфаген, видимо считая, что карфагенский Совет обуздает дерзкого Ганнибала. А тот между тем осадил и взял Сагунт. Почти все жители были вырезаны,[22] город был сметен с лица земли.
Тогда в Карфаген было отправлено последнее посольство. Оно потребовало от Карфагена выдать Ганнибала. Карфагеняне ответили решительным отказом. Говорили они горячо и долго. Фабий, глава посольства, ничего им не ответил. Он лишь указал на свою тогу и сказал, что принес в ее складках войну или мир и вытряхнет сейчас то, что выберут карфагеняне. В ответ карфагеняне закричали, чтобы он вытряхнул, что хочет. «Войну», — сказал римлянин. А те ответили: «Принимаем!»
Так началась эта великая война (Polyb., III, 8, 8; 13; 15; 17; 20; 33, 1–4; Liv., XXI, 12–18).
Глава II. ГАННИБАЛОВА ВОЙНА
Dirus per urbis Afer ut Italas
ceu flamma per taedas vel Eurus
per Siculas equitavit undas.
(Hor. Carm., IV, 4, 42–44)[23]
Римляне, конечно, знали, что война им предстоит нелегкая. Но они и подозревать не могли, что их ожидало на деле. Одного консула — Публия Корнелия Сципиона — они послали в Испанию против Ганнибала, другого — Тиберия Семпрония Лонга — в Африку, чтобы он блокировал самый Карфаген. Но ничему из этого не суждено было сбыться.
План войны уже готов был в уме Ганнибала. Но прежде он хотел обратиться к богам и отправился в Гадес. Этот город на острове за Столпами Геракла основан был финикийцами еще в глубокой древности. Здесь находился знаменитейший храм Мелькарта, куда стекались паломники со всего финикийского мира. Здесь, по преданию, претерпел страсти Мелькарт, здесь была его могила, здесь он воскрес (Nonn., XL, 358; Sall. Iug., 18, 3; Mela, 46).[24] Бритые босые жрецы в белых льняных хитонах поддерживали в храме вечный огонь (Sil. It., III, 23–28). Золотом и изумрудами блестел храм внутри (Phil. Apoll., V, 5). Ведь в этот финикийский Иерусалим текли сокровища со всего мира. Тут и разыгрывались дикие и страшные мистерии, о которых чужестранцы могли только догадываться, ибо на это время все они изгонялись из города (Paus., IX, 4, 6). При храме жили пророки и ясновидцы. Это были оборванные факиры и дервиши, вроде тех, с кем плясал Саул, за что его и осмеивал народ израильский.