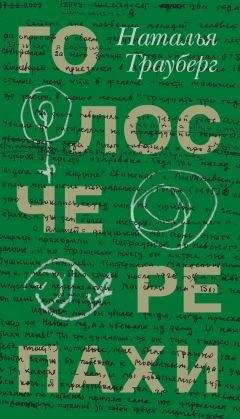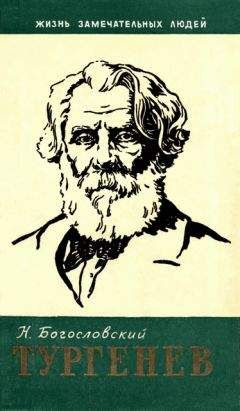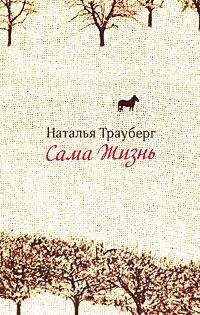– И этого я не сказал. Путь – один (…)
– Значит, спасает только христианство?
– Христос спасает, Путь, Истина и Жизнь.
– Значит, нехристиане ошибаются?
– Когда противоречат Церкви, конечно!
Беседа с пророком, с которым Сам Христос беседовал на Фаворе, длиннее и глубже первых трех, и кончается она согласием.
Книгу же завершает небольшое послесловие, сжатое повторение, которое мы приводить не будем. Надеюсь, читатель и сам сможет обобщить и разделить на «пункты» все, что тут сказано. Если же не сможет, то скорее всего из-за возмущения. И это побуждает подумать еще об одном.
Те, о ком сокрушался Крифт, больны равнодушием. Я упростила, конечно – все мы знаем, как нетерпимы люди контркультуры. В конце концов, принцип готтентота как был, так и остался главным мирским принципом, и прекрасно применяется к мысли (моя – свободна, твоя – нет). Однако, что ни говори, «у них» больше склонность к всеядности, «у нас» к нетерпимости в самом злом, личном, грубом, совсем не рыцарском смысле. Нельзя семьдесят лет безнаказанно вдалбливать полное нежелание и неумение понять другого. Поэтому как-то страшно – только дай людям еще одну борьбу! На собраниях прорабатывать не станут (хотя кто их знает), зато в каждосекундном общении, определяющем связи с ближним, может начаться Бог знает что. Да оно и так есть, никуда не делось, но стоит ли подпитывать?
Все эти вопросы довольно глупы. Конечно, как всегда в христианстве, Крифт обращается к имеющим уши, не зная, сколько семян куда упадет, и все-таки рискуя.
Писать о самом Иерусалиме почти невозможно. Слово здесь и беспомощно, и нецеломудренно. Конечно, не всякое слово, и Писание, и даже великие стихи эту высоту берут, но только они, что-то другое – вряд ли. Единственное, что вполне можно, но не совсем безопасно выразить – ясное, четкое ощущение: «он отторгает всякую неправду». Земная суета – пожалуйста, это есть, обычный западный город, вроде Лондона или, говорят, Парижа. Уютный центр того стиля, за который мы так ухватились сейчас, догадавшись, сколько в нем сообразности человеку. Мандельштам был бы просто в восторге, он по-детски эту роскошь любил. Конторы с вежливыми и прелестными барышнями, банки какие-то, медленные большие лифты. Для всего этого совсем не надо ездить в святые места, но это – есть, и ни в малейшей мере не шокирует. Скорее – наоборот. Плачешь и рыдаешь совсем в других местах и по другому поводу. Может быть, соберусь с духом и сумею (а кроме того, – посмею) написать об этом. Чтобы разогнаться, пишу сейчас о книгах, как обещала. Книги издаются и там, их много, три из них мне подарили авторы.
Сразу скажу: о самой филологической из них, посвященной Лермонтову, писать не буду, только порассуждаю о филологах того поколения, к которому принадлежит ее автор, Илья Захарович Серман. Здесь, по приезде, я купила книгу Якова Соломоновича Лурье. Немного моложе их и учился чуть позже Юрий Михайлович Лотман. Все это – люди замечательные, и не в том смысле, что они филологи самой высокой пробы, а в том, что они – очень хорошие. Все трое, и довольно много других, принадлежат к тем, кто был в Ленинградском университете конца 30–40-х годов (рухнуло это, помню, в 48–49-м). В предисловии к книге Якова Соломоновича говорится об историческом факультете, но это неважно, истфак и филфак еще ощущали себя чем-то единым. Так вот, после слов о том, что вернулись и преподавали И. Гревс, Е. Тарле и другие (Тарле был и при нас, ученики Гревса нас учили) сказано, что Яков Соломонович в книге об отце назвал такой истфак «Афины и апокалипсис». Вот уж верно! Надеюсь когда-нибудь написать об этом подробней, но сейчас важно одно: никто из этих молодых ученых в Бога не верил.
Выводы делать не хочется. Сказать, что нам стыдно? Это не совсем то. Стыдно, конечно, мы – хуже, но не в этом дело. Я знаю христиан, которые не хуже, а просто другие, настолько другие, что привычные слова «анонимные христиане» к тем, неверующим, и не применишь. На их фоне и видишь, чем отличается христианин. Отличается он, собственно говоря, безумием. У этих поистине прекрасных людей есть благородство, милость, стойкость, скромность, в каком-то смысле – кротость и смирение; здесь – останавливаемся. Прибавлю только: думая о них или общаясь с ними, особенно ясно понимаешь, что христиане не какая-то masa salvationis, а именно дрожжи, соль, совершающие довольно грязную и странную работу. Что же до «таких людей», вернее назвать их праведными, живущими по правде. Может быть, у «нас» – перекос в сторону милости, у «них» – в сторону правды. Связано ли это с тем, что те, о ком я говорю – евреи? Я не знаю.
Что же до самой книги Ильи Захаровича, писать о ней не берусь, потому что я уже не филолог. Другие две книги будут чем-то вроде трамплина для чего-то вроде проповеди.
Книга Михаила Вайскопфа «Во весь логос», как вы догадываетесь, – о Маяковском. Она сама – пламенная, как проповедь, и очень интересная. Пафос ее сводится точно к тому, о чем писала тут в «Русской мысли» Ирина Муравьева. Помните? Бабушка и девочка не могут принять его беспощадности. Господи, как это точно! Совершенно то же самое было когда-то со мной. А тут автор книги, отнюдь не дрожащая леди Джейн, а блистательный и взрослый ученый лихо, просто наотмашь пишет о том же. Очень радуешься, когда он приведет жуткие стихи о мальчике Пете и прибавит, что «по заряду дегуманизации» они «сопоставимы разве что с нацистской пропагандой, которая предваряла поголовное уничтожение евреев». Есть и про «кровожадно-сентиментальный культ человека», и про то, что разговор с Лениным «смахивает на отчет беса перед Люцифером» (помните, «работа адовая»?). Пересказывать книгу не стоит, надеюсь – вы ее прочитаете, но вот о чем подумаем.
Мудрый, кроткий и осужденный когда-то на 25(!) лет Илья Серман ответил маленькой статьей на первую книгу в этом духе, книгу Карабчиевского. И он, и мы выносим за скобки огромный дар Маяковского, не в нем дело. Но если бы обобщить то, что говорит И. З., и то, что пытаюсь сказать сейчас я, придется вспомнить разницу между оценкой и судом.
Помню, как поразило меня в те, студенческие годы маленькое рассуждение, кажется, у Пешковского – одно дело сказать: «он украл», совсем другое – «он вор». Я-то в Бога верила и мгновенно, навсегда перенесла это из филологии в богословие. Потом встречала и в рассказах о пустынниках, и в рассуждениях Льюиса, это вообще – общее место, но не все его помнят. Может быть, никому, кроме христиан, и не положено помнить его во всей полноте.
Вспомнив, смотрю на Маяковского, и вижу несчастное поколение полухулиганов, угодивших в капкан советской власти. Что говорить, они туда охотно лезли, но я так много их видела, так много от них вынесла, что просто обязана разглядеть сквозь все самолюбивых, потерянных детей. Очень легко сказать, что и Гитлер – самолюбивый подросток. Да, может быть, всякая беспощадность коренится там, в досаде и недолюбленности, и ничего хорошего в этом нет, но кто-то же должен не оправдать, а пожалеть их! Наверное, только христианам положено различать оправдание и жалость; вот и попробуем.