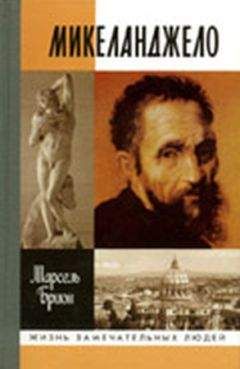В бесмедреше он болтал и кривлялся, чтобы рассмешить молящихся мальчиков. Он связывал цицес на талесах прихожан, причем как раз во время Шмоне эсре. Забрасывая талес на плечо, он всегда старался стегнуть кого-нибудь цицес по глазам; или, накрывая талесом свою голову, заодно накрывал им и парочку чужих. Кроме того, он отпускал всякие неприличные шуточки во время свадеб и обрезаний. На него сердились, ругали его, вызывали к Торе разве что на Симхастойре[74] — под одним талесом вместе с детьми. Жена Йойсефа костерила его прилюдно, понося и проклиная за безделье, хотя портным он был хорошим, мастер золотые руки. Он же все пропускал мимо ушей, продолжал водиться с мальчишками, проказничал и безобразничал. Какая-то неизбывная радость и жажда баловства была в этом высоком, плотном человеке с густой темной бородой и такими же бровями, из-под которых выглядывали шкодливые глазки, полные веселья и детской игривости. Даже в Дни трепета, когда рыба в воде и та дрожит от страха, Йойсеф-портной устраивал свои шуточки в бесмедреше. Он коверкал слова махзора и превращал их в смешные, зачастую неприличные, словечки на идише. Во время Шмоне эсре он наступал кому-нибудь на ногу или вместо того, чтобы во время покаянной молитвы бить себя в грудь[75], бил в грудь своего соседа. Он высмеивал тех, кто учил Тору в бесмедреше, или на комический лад переиначивал имена во время помолвок. Когда коэны готовились к благословению[76], он плескал водой им на чулки, прятал снятую ими обувь. На Симхастойре, Пурим и Тишебов[77] он совсем распоясывался. Не раз ленчинские обыватели вышвыривали его в гневе из бесмедреша во время молитвы, но он возвращался и вновь брался за старое.
Мой отец всякий раз выходил из себя, когда замечал, что я нахожусь не на почетном месте рядом с его штендером, а у дверей, рядом с детьми портных и сапожников, там, где безобразничал Йойсеф-портной.
— Шиеле, где ты? — слышал я его голос.
— Шиеле Кутнер, папа тебя зовет, — сообщали мне со всех сторон, хотя я и сам отлично слышал оклик отца, полный укоризны.
Целый град упреков и порицаний обрушивался на мою голову, но никакое наказание не могло удержать меня от того, чтобы снова протиснуться к дверям. С еще большей охотой и нетерпением бежал я на пустырь за местечком, где евреи, державшие скотину, пасли своих коров, лошадей и коз, а мальчики играли в свои игры.
Пустырь был большим, вытоптанным, общипанным пасшимися там животными, загаженным лошадиным, коровьим и козьим навозом и гусиным пометом, но залитым солнцем и усеянным желтыми и белыми полевыми цветочками, метелками, сорняками, которые мы называли безумной кашкой, и травой с белой ватой внутри, и другими растениями всех форм и расцветок. Хозяева скотины лежали в траве, чаще всего лицом вниз, и сладко спали. Их лошадки, у которых в субботу был выходной, паслись рядом, перескакивая на стреноженных ногах от выщипанного места к нетронутой граве. Коровы мычали, обращаясь к своим телятам, которые беззаботно бегали вокруг, полные телячьего восторга; клячи ржали, призывая жеребят, в дикой радости носившихся друг за другом по полю. Несмотря на то что хозяева скотины лежали лицом вниз, по их субботним капотам в рубчик я узнавал, кто есть кто. Так, я знал, что широкие плечи, на которых субботняя капота едва не трещит по швам, принадлежат Гершлу-арендатору — таких, как он, у нас называли доярами. Вот он лежит себе и спит по-субботнему, после тяжелой работы: всю неделю возил в Варшаву молочные продукты. Пара его лошадей, таких же больших и сильных, как он сам, пасется неподалеку. Чуть поодаль от него виднеется пара суконных штанов, белая рубашка и маленький арбоканфес, а капоты нет. Хотя лица не видно, а затылок прикрыт небольшой суконной шапочкой, я точно знаю, что это Лейбуш-пекарь, в чьей русой бороде всегда полно муки. Весь в муке и его Каштан, который с аппетитом ест ничейную травку. В стороне лежит Ицик-возчик, по прозвищу Самоволка, потому что он часто использует это словечко, которое выучил, служа у «фонек». Ицик — худой, измученный нелегкой работой человек, он доставляет товары из Варшавы торговцам и лавочникам. Так же измучена и его лошаденка, она покрыта пылью и грязью, а ноздри у нее всегда заложены. Хаскла-пекаря не видать, потому что он иногда читает шахрис перед омудом и пасти лошадь ему не пристало. Она пасется под присмотром его сына Носн-Меера, высокого парня с жидкой русой бороденкой и длинными стройными ногами в синих суконных штанах и высоких сапогах с начищенными до блеска, как у офицеров, голенищами. Вон он лежит, зарывшись в траву и для проформы прикрыв голову не шапкой, а маленьким носовым платком. На его начищенных голенищах играет солнце. Поодаль от него сидит его высокая, худая, сутулая сестра Неха в окружении своих гусей и гусят, пасущихся на травке. Среди доброго десятка сестер, девок здоровых, веселых и красивых, она одна такая сутулая и болезненная и всегда летом пасет гусей. Целые стада гусей пасет она на пустыре и щиплет при этом перо. Костлявая, угловатая, с длинными руками и ногами, Неха сидит, согнувшись, окруженная гусаками, гусынями и гусятами, так что к ней и не подойдешь. Чуть только приблизишься к ней, гусаки и гусыни начинают шипеть и бегать, вытянув вперед шеи и раскрыв клювы. Маленькие гусята поднимают страшный шум. Портновские подмастерья, которые любят пошутить с девушками, не отваживаются подойти к Нехе, опасаясь ее сердитых гусей. В субботу она не щиплет перо и не собирает перья, потерянные гусями на поле, хотя обычно целую неделю занята тем, что собирает перья для перины себе в приданое, которым ей, засидевшейся в девках, возможно, никогда не придется воспользоваться. От нечего делать она все время грызет мыльный корень[78] да покрикивает на гусей и гусят.
— Носн-Меер, — то и дело будит она своего красавца-брата, — Носн-Меер, лошадь уходит с поля, пригони ее обратно…
Носн-Меер сладко спит и не слышит того, что говорит ему сестра, но мальчики не ждут, пока он пригонит обратно свою лошадь. Они уже гонят ее обратно на пустырь, это еврейское владение. Я бегу с ними и тоже гоню лошадь Хаскла-пекаря, которую так и тянет на мужицкие поля.
Все мальчики из простонародья — на пустыре. Некоторые одеты в субботние капоты, но большинство — в будничных халатах, и только суконные шапочки у них субботние. Двое даже в субботу ходят босиком[79]. Это братья Файвешл и Шлоймеле, сыновья самого бедного и презренного в местечке человека по имени Гершл-Палка. Никто из обывателей не хочет иметь дела с этой семьей, все запрещают своим детям водиться с Файвешлом и Шлоймеле, которых зовут уменьшительными именами не из любви, а в насмешку. Их внешний вид ничем не намекает на святой день. Халаты у них рваные, штаны разодраны, их арбоканфесы засалены до черноты, а вместо цицес к ним привязаны связки хлопчатых нитей[80]. В их шапочках дыры прямо на лбу, и сквозь эти дыры видны жесткие черные волосы. Их ноги покрыты грязью, порезаны осколками стекла, по которым они ходят босиком. Их руки и лица всегда изодраны и расцарапаны — результат постоянных войн, которые они ведут и друг с другом, и с другими мальчиками, как еврейскими, так и крестьянскими. Мальчикам приходится водиться с Файвешлом и Шлоймеле и принимать их в свои игры: тех, кто им откажет, братья бьют смертным боем. Они такие ловкие и так чертовски здорово дерутся, что могут вдвоем выстоять в драке против всех мальчиков. Они — беспризорники, им что бить, что быть побитыми. Они умеют выкидывать всякие штуки: стоять на голове, пройтись на руках через все поле. Могут перепрыгнуть изгородь и самую широкую канаву. Наперегонки бегают так быстро, что никто не может их догнать. Кроме того, они, в отличие от большинства еврейских мальчиков, не боятся собак. Не боятся они и крестьянских детей, которые устраивают жестокие потасовки с еврейскими, чтобы прогнать их с находящегося в еврейском владении пустыря.