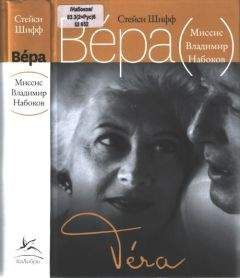Уже многократно упоминалось о некой неестественности Санкт-Петербурга, о том великолепии, которым покоряет город, созданный среди болот, в самых неблагоприятных на земле климатических условиях. При скандинавской колористике здания в нем повторяют здания Венеции и Амстердама и воздвигнуты зодчими — уроженцами Италии, Франции и Шотландии. Розовый гранит, одевший набережные, привезен из Финляндии. Дух в городе был исключительно нерусский, не распространившийся на остальную империю, к которой явно отношения не имел; бумажные фабрики, судоверфи, сталелитейные заводы там принадлежали британскому, голландскому и немецкому капиталу. Этот навеянный Венецией мираж буйно разрастался, в год рождения Веры Евсеевны насчитывая полтора миллиона жителей, а уже в 1917 году — два с половиной. Во всех смыслах город такого масштаба и на таких широтах — соответствующих широтам юга Аляски — являл собой торжество разума над реальностью. Его величественные скульптурные памятники пережидали снежные метели под съемными деревянными пирамидами; его жители каждую осень отважно выстаивали наводнения; весна заявляла о себе хрустом массивных глыб трескавшегося на Неве льда. (Для Веры Евсеевны скрип-скрип, хруп-хруп счищаемого прислугой с крыш снега отзывался долгожданной радостью; он означал, что скоро весна.) Глубокой зимой, когда бушевали метели, почти девятнадцать часов в сутки царила ночь. Единственный на земле город, где ветры, по выражению Гоголя, дуют с четырех сторон, был в то же самое время столицей, которой надлежало впечатлять, хотя за роскошными фасадами дворцов все обстояло не так уж благополучно. Даже сами камни были подделкой. Вблизи Петербурга нет каменоломен, многие дома поверх кирпича крыты штукатуркой, восхитительно воспроизводящей эффект величия и незыблемости. Неудивительно, что петербуржцев влекло хоть к какой-то достоверности. «Пушка у нас стреляла ровно в двенадцать дня, — вспоминает Вера Набокова, — и все в Петербурге сверяли по ней часы».
Для Вериного семейства этот полуденный выстрел был чуть ли не единственной непреложностью. Евреи Слонимы жили в такую эпоху и в таком городе, где их фамилия накладывала печать на все, что бы они ни делали. Слово «еврей» стало употребляться рядом со словом «русский» только где-то с середины девятнадцатого столетия, при жизни деда и бабки Веры Евсеевны, и довольно плохо с ним уживалось, в сочетании оказываясь куда несуразней, чем «либеральная аристократия» для уха Набокова-старшего. По словам одного историка, выражение «русский еврей» продолжало означать «желаемое, не дотягивающее до действительности». Лишь с 1861 года еврею с университетским образованием было официально разрешено проживать за чертой оседлости; восемнадцать лет спустя постепенно это право распространилось на всякого еврея — выпускника любого высшего учебного заведения. В ту пору большинство живших в Санкт-Петербурге евреев не умело читать по-русски. На рубеже столетий в еврейских семьях из самых престижных районов Петербурга — к числу которых Слонимы тогда не принадлежали — примерно половина говорила дома на идиш. Незначительное и недоверчивое меньшинство, они и чувствовали себя, и воспринимались чужаками. Повсюду их преследовала опасность выселения. Евреи из черты оседлости были изгоями по причине своей местечковости. Но даже те, которые жили в Петербурге, даже такое обрусевшее семейство, как Слонимы, в родной стране считались жителями некоего «землячества»[15].
И это землячество в период между судебными реформами 1860-х и Октябрьской революцией попало в колоссальный хитроумный замкнутый круг. Евреям были предоставлены некоторые права; но если какое право прямо не оговаривалось, значит, в нем отказывали. Принятый в 1914 году законодательный акт о положении евреев насчитывал чуть ли не тысячу страниц — путаных и противоречивых. Даже тому, кто прочел все с начала и до конца, было не вполне ясно, что же все-таки разрешается, а что нет. В результате предписания постоянно нарушались. Более того, правила могли в любой момент поменяться. Евреев сегодня можно было изгнать из города, а завтра призвать обратно. То еврею-выпускнику юридического факультета разрешалось кропотливо трудиться помощником адвоката, то его принуждали покинуть город, ведь, не войдя в коллегию адвокатов, права на жительство он не имел. Если тот просил принять его в коллегию, чтобы обеспечить себе право на жительство, ему отвечали, что квота для евреев исчерпана и вакансий нет. И если еврею везло и он, несмотря на все превратности судьбы, получал желаемое место, вполне вероятно, что, и будучи принят в коллегию, он сталкивался с невозможностью вести практику в Петербурге, поскольку накануне вступило в силу новое процентное ограничение. Еврей мог стать одним из присяжных, но только не старшиной. Еврей мог состоять в полковом оркестре, но только не в качестве капельмейстера. Солдату-еврею во время отпуска разрешалось следовать через Петербург, однако проводить отпуск в городе он не имел права. Существовали квоты по допуску евреев в больницы. Евреям и умирать позволялось строго определенным числом. И вызывало общее недовольство, что — в грубейшем несоответствии с законом — евреи стремились наперебой пробиться на кладбище в превышавших квоту количествах. Чтобы получить право проживать в Петербурге, многочисленные представители умственного труда, в том числе крупнейший историк еврейства в России, несколько известных художников и будущий президент государства Израиль, регистрировались в качестве домашней прислуги. В одном случае, особо привлекшем к себе общественный интерес, молодая женщина зарегистрировалась проституткой, чтобы иметь возможность посещать университет; откуда была изгнана, как только выяснилось, что означенным ремеслом она не занимается. Даже наиболее привилегированные евреи столицы не избежали дискриминации. Когда «король железных дорог» Симон Поляков подарил Санкт-Петербургскому университету общежитие, евреям селиться в нем не позволялось.
В этих усеянных минами водах Евсей Лазаревич медленно, но верно проторил-таки себе дорожку. Его жизнь представляла собой прерывистый путь врастания в новую культуру. По приезде в Петербург — а по всей видимости, он первым в семье сделал этот шаг — он звался Гамшей Лейзерович[16]. С этим именем он получил диплом юриста, обеспечивший ему право селиться в Петербурге. Дважды в год он подтверждал свой вид на жительство, обновляя бумаги после каждого возвращения из поездки в Могилев или продлевая по требованию властей. Он был представителем мощной волны евреев-выпускников юридического факультета, серьезно заботившей власти; к 1890 году почти половину начинающих адвокатов составляли евреи. Когда эти цифры опубликовали, они вызвали всеобщее изумление. Всего через несколько лет то, к чему Евсей Лазаревич готовил себя в 1884 году, стало почти нереальным. В последующие восемь лет, когда самому Евсею Лазаревичу придется оставить мечты о вступлении в коллегию адвокатов, туда было допущено всего пятнадцать евреев. Евреи-юристы представляли особую угрозу для правительства, поскольку могли оспаривать правильность законов, созданных специально, чтобы не давать им ходу.