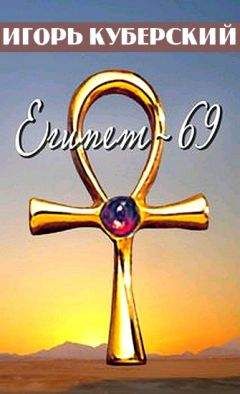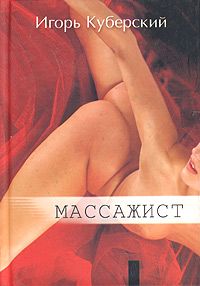На следующий день устно перевожу на командном пункте ПВО полковнику Тарасову официальное сообщение для нас: «Вечером 9 сентября израильтяне предприняли операцию на египетской территории с использованием морских, воздушных и сухопутных, в том числе танковых, сил. Под покровом темноты израильские войска высадились с самоходных паромов на западный берег Суэцкого залива и прошли около 50 километров, разрушая сторожевые посты и военные сооружения, в том числе ракетные установки СА-2. Ударный отряд ни разу не вошел в соприкосновение с египетскими силами и в середине следующего дня, то есть 10 сентября, отступил со всем своим снаряжением на свою территорию».
То, что противник отступил, избежав боя с египетскими силами, подается как признак нашей мощи. Однако из неофициальных источников уже известно, что все просто побросали оружие и разбежались, кто куда. Число погибших не называлось. А еще выяснилось, что утром, зная о моем следовании в Каир, из штаба звонили Коломейцу, чтобы предупредить об израильской диверсии, но я уже был два часа как в пути…И пока я не объявился собственной персоной, в списках живых я едва ли значился.
Неделю я ходил в героях, как-никак спас не только себя, но и целый автобус ни в чем не повинных мирных арабов. Там же был 21 человек, включая водителя, — очко, счастливое число. Я был двадцать вторым…А потом меня вызывали в спецотдел, или как это там у нас называется — контрразведка, внешняя разведка нашей агентуры с территории дружественных стран, военная разведка… Нашего особиста я видел впервые, хотя по роду службы околачивался и штабе ПВО, и на командном пункте в Гюшах. Особист принял меня с оживлением в бровях и во взгляде, как если бы нетерпеливо ждал нашей встречи, чтобы выразить мне свое восхищение. Может, и медаль дадут? — суетно подумал я в первую минуту. А что? За какое-нибудь там мужество и военную доблесть? Как будто я не презирал еще недавно всяческие награды.
— Расскажите, как же все-таки это было на самом деле? — выйдя из-за своего стола, порывисто поздоровался он со мной и сел рядом, подчеркивая неформально-доверительный характер нашей беседы. В его повадке читались пройденные уроки психобработки клиента. — Ведь согласитесь — это же, пардон, не жук накакал: вот так стоять перед танком и разговаривать. «Жук накакал» — это и был психологический прием, чтобы я расслабился, почувствовал себя в своей тарелке. Я готовно ухмыльнулся — пусть он считает себя хозяином положения, каковым и без своих дешевых заготовок несомненно являлся.
— Ничего особенного не было, — сказал я. — Просто командира танка интересовало, есть ли в автобусе военные, и водитель указал на меня.
— И вы подтвердили, что вы военный, — сказал особист, посмотрев на меня так, словно всеми фибрами души ожидал от меня положительного ответа.
— Конечно, — сказал я. — Тем более что на мне была военная форма.
Я думал, что особист посмеется и одобрительно похлопает меня по плечу, но он вдруг нахмурился и, встав со стула, заходил по кабинету, заложив руки за спину.
— Напрасно, — сказал он..
Мне стало не по себе. Я молчал и выдерживал паузу. Я знал психологическую силу паузы и не хотел чувствовать себя виноватым. Наконец особист повернулся ко мне, и я увидел в его невыразительном, каком-то ускользающем лице человека, старающегося остаться незаметным в толпе, огромное желание придать подозрительную значимость тому, что произошло со мной, расшифровать произошедшее с какой-то особой, недоступной рядовому разуму стороны. Я вдруг осознал, что ему просто нечем здесь заниматься, как только следить за своими, что он изнывает от безделья и вот теперь рапортом в Москву готов обозначить свою важность и оправдать свое пребывание здесь.
— Очень напрасно, — повторил он.
— Я бы ничего не сказал, если бы меня не спрашивали, — уточнил я на всякий случай. — А если бы нас раздавили или расстреляли, как другие машины?
— Вы считаете, что вас не тронули, потому что вы русский?
— Скорее всего, — сказал я.
— Вы ведь, вроде, общались по-русски? — вскинул он брови, как если бы этот вопрос наглухо припирал меня к стенке.
— Да, сначала я ответил ему по-арабски, а потом по-русски и по-английски.
— И он вам сказал? — брови снова пошли вверх.
— Он сказал, чтобы я передал своим…
— Чтобы русские убирались в Москву! — закончил за меня особист, демонстрируя свою осведомленность.
— Да, — сказал я.
— И вы передали всем эту фразу…
— Да, передал.
— Кому именно?
— Ну, с кем я работаю.
— Зачем?
— Просто так. Я не придал ей особого значения. Это даже смешно…
— А нам не смешно! — остановился поодаль особист, больше не желавший поддерживать дистанцию абсолютной доверительности. — Нам совсем не смешно.
Я не стал спрашивать, кому это «нам». Я молчал, пытаясь сообразить, куда он клонит.
— Вы понимаете, что разгласили государственную тайну?
— Какую тайну?
— Сами подумайте.
— Никакой тайны я не разглашал.
— Тайну, что вы советский офицер. Тайну своего пребывания на территории противника Израиля. Тайну нашей военной помощи дружественной нам стране.
— Какая же это тайна — сказал я. — Об этом и так всем известно, в египетских газетах можно прочесть.
— Молодой человек! — остановился передо мной особист, — товарищ лейтенант! — и в голосе ее зазвучал металл. — Местные газеты могут писать о чем угодно. Но газета «Правда» об этом не пишет. Вы тут находитесь в составе группы военных советников, осуществляющих миссию подготовки и поддержки вооруженных сил дружественной нам арабской страны. И все, что относится к военному ведомству, является секретом для противника, военной тайной. И решение Политбюро ЦК КПСС на этот счет — оно тоже секретное. Понятно?
— Понятно, — сказал я. Вот оно как повернулось… Теперь меня скорее всего вышлют отсюда. Вот тебе и медаль за личное мужество.
— Но у меня не было выбора, — сказал я.
— Выбор всегда есть, молодой человек.
— Вы бы предпочли, чтобы меня расстреляли или взяли в плен? — усмехнулся я, решив, что терять мне больше нечего и мысленно уже прощаясь с Египтом.
— Ну-ну, полегче, — чуть сбавил тон особист. — Что я предпочитаю, о том будет доложено в Москву. — А пока вы свободны.
На этом наш разговор окончился. Я ждал решения из Москвы, но так и не дождался. Пронесло. А может, то, что больше я не вернулся по контракту в Египет, и было тем самым решением…
* * *
Я прихожу к ней заполночь. Для этого мне нужно преодолеть два кордона — две дежурки в двух домах, нашем и лэповском. Да, нас охраняют, уж не знаю, от кого — от израильских коммандос, что ли? — но охраняют. И это нас устраивает, в частности и меня, кроме как в таких вот случаях, как сейчас. Внизу, как в родной студенческой общаге, в коморке дежурного горит свет — сам он увлеченно говорит по телефону и мне удается незаметно выскользнуть из дома. Между нашими домами метров пятьдесят — миновав это расстояние, я оказываюсь с тыльной стороны дома лэповцев, то есть спецов, тянущих высоковольтную линию электропередач от Асуана. Подъезд, как и у нас, огорожен временной кирпичной кладкой — многие дома в Каире окружены барьерами из мешков с песком, откуда подчас торчит дуло пулемета, но здесь — просто двухметровая стенка, которую я вполне могу одолеть. Что я и делаю, стараясь не запачкаться, поскольку на мне белая рубашка, не лучший камуфляж. Одолев стену, я оказываюсь уже за дежуркой, стекла которой смотрят на вход, и с замирающим от волнения сердцем, неслышными шагами пантеры устремляюсь на заветный шестой этаж. Лифт не вызываю — он может только выдать меня… На шестом, стараясь унять дыхание и умерить удары сердца, тихо скребусь в дверь. Ни стук, ни звонок невозможны — на лестничную площадку выходят еще три двери, и за каждой из них может оказаться наш разоблачитель и стукач… Она сразу открывает мне, потому что ждет. Она знает, когда я приду, и стоит за дверью. На ней халат, а под ним на ней ничего. Едва она закрывает за мной, как я обнимаю ее, прижимаю к себе, впитывая сквозь шелк халата ее горячую гибкую наготу, опускаю голову ей на плечо, глажу щекой ее шею, вбираю в себя воздушный запах ее вымытых рассыпающихся волос. Она послушно замирает, положив ладони мне на грудь, как бы вымеряя кончиками пальцев уровень моего волнения, а потом я нахожу ее губы, и когда мы целуемся, она прижимается ко мне низом живота, замыкая цепь двух наших желаний, и я ощущаю ее лобок, ее сильные бедра, и эта простодушная открытость ее чувства опять пронзает меня. Просто любить, без всяких там почему, зачем и видов на будущее, — любить, потому что любится — такого, кажется, еще никогда не было в моей жизни.