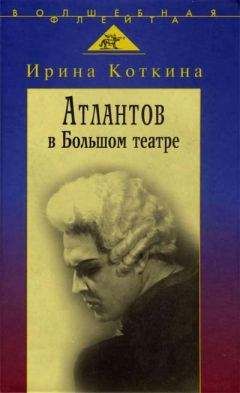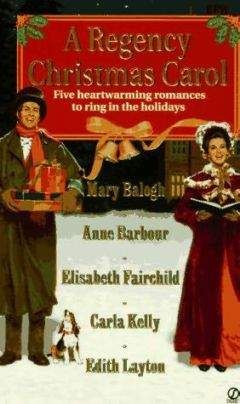– Браво, браво! – сказал тот покровительственным тоном. – Вы просто приятное приобретение – и для кружка и для меня лично: я очень люблю играть в четыре руки.
– Я ж говорил, – послышался сзади голос хозяина: – молодец молодцом, нашего полка прибыло. Если сей дом располагает к себе, будем вас числить за нами.
Мусоргский чувствовал себя на вершине счастья: тщеславные его мечты, все, что он скрывал даже от себя, разом вспыхнуло и загорелось.
Кюи перевернул страницу и спросил, можно ли продолжать.
Романтическое звучание второй части было полно неизъяснимой прелести. Ах, какие творения существуют на земле, о которых даже не подозреваешь! Мысль, что они ему под силу, что он способен ими наслаждаться, играя сложные вещи с листа, наполнила Мусоргского гордостью.
Уже и симфония была сыграна, и две девушки по очереди спели романсы Глинки и Даргомыжского, и гость высокого роста, с сильно закрученными усами исполнил неизвестную ему вокальную партию; уже сели пить чай и за чаем зашел разговор о женском высшем образовании, а Мусоргский все еще переживал свою радость.
– Нам с вами не грех музицировать и приватно, – обратился к нему Кюи через стол. – Какого вы мнения?
– Ну что ж, – храбро ответил он, – я с охотой.
Возвращаясь домой, Мусоргский вспомнил, что приятель, позвавший его сюда, сам не пришел почему-то. Признаться, сожаления он не почувствовал: Ванлярский больше принадлежал не к тому кругу, в который он сам вступил теперь, а к старому, привычному, и этот старый впервые показался ему таким пошлым. Неужто ж опять на потеху товарищам придется ночи напролет зубоскальничать на рояле?
Кончилось младенческое состояние души, и юность, быть может, скоро пройдет. Подходит пора большей зрелости, но в воздухе пахнет весной. Он повторял себе, что совершит еще на своем веку многое. Вспомнились похвалы Антона Герке; тот, бывало, брал его за руку и, мягко похлопывая по ладони, повторял:
– О-о, эти пальчики умеют многое! Большой толк отних может быть, о-о!
Что музыка полна такой прелести, что она заключает в себе пламя, способное обжигать, он узнал только теперь. Дом Даргомыжского, разговоры о выдающихся людях, новые произведения и новые имена – все пришло неожиданно, и ко всему этому он, кажется, приобщился.
Впечатления от вечера вставали перед ним с живостью необыкновенной, и Мусоргский возвращался домой, полный радостного возбуждения.
Однако жизнь шла своим чередом, и требования, какие она ему предъявляла, оставались прежними.
После спектакля поехали всей компанией к корнету Орфано. Молодежь уселась вокруг стола, денщик и две горничные быстро уставили стол закусками и бутылками. Начался обычный шумный и беспорядочный разговор.
Хозяин признался гостям, что увлечен одной балериной. Он стал описывать, как она хороша собой, какая у нее улыбка, какие глаза, какая поступь.
Такие разговоры были в чести: друзья стали расспрашивать, кто она, где танцует. Оказалось, что девушка учится в театральном училище.
Оболенский заметил внушительно:
– Надо, Серж, действовать. Мечта не может почитаться добродетелью офицера. Ты со своей танцовщицей встречаешься?
Речь пошла о том, как устроить свидание Орфано. Товарищи предлагали подкупить в училище сторожа, просунуть записку в форточку, взобравшись на крышу училища, похитить, наконец, девушку, когда она в закрытой казенной карете поедет на Каменный остров на дачу.
Планы отличались смелостью, даже дерзостью. Почиталось делом чести помочь в таком затруднительном положении товарищу. Друзья готовы были сделать всё, чтобы облегчить ему встречу с балериной.
Тема эта занимала офицеров долго, и в обсуждении ее принимали участие все, кроме Мусоргского. Он сидел задумчивый и безучастный.
Сначала на него не обращали внимания. Потом Оболенский заметил:
– Модест, господа, невесел. Модест скучает. Может, и у тебя, дружок, сердечное увлечение?
– Да нет, какое там, он ко всему безразличен! – крикнул с другого конца стола прапорщик Соковнин. – С той самой поры, как мы смотрели «Русалку», с Модестом что-то неладное происходит.
Оболенский произнес назидательно:
– А все потому, что нарушил правила офицерской компании. Ты в тот раз с нами не поехал и с тех пор стал чуждаться общества. Так, Модест, нельзя, не положено: мы молоды, веселы и беспечны, и в веселой беспечности наша добродетель. Ведь и ты прежде был неутомим в развлечениях.
– Он музыкой слишком увлекся, – примирительно вставил Ванлярский. Потом наклонился к сидевшему рядом Модесту и тихо сказал: – Я тебя понимаю. Но той это – вещи разные.
– Может быть, – пробормотал Мусоргский. – Я ведь не возражаю.
– Да, но ты скучен.
– Пускай поиграет нам, – заговорили товарищи, – и хандра пройдет.
Прежде чем усадить его за рояль, снова налили всем вина. Мусоргский выпил уже несколько бокалов, в голове немного шумело. Он настроен был примирительно, но вести пустые, надоевшие ему разговоры не желал. Уж лучше было играть.
Он направился к инструменту. Товарищи продолжали шуметь за столом: разговор шел уже не о танцовщице, а о певцах и, разумеется, о певцах итальянской труппы.
– Нет, господа, – стараясь перекричать всех, гремел подпоручик Миронов, – настоящий шик у них, и только у них. Я в музыке ничего ровным счетом не смыслю, но за их рулады жизнь готов отдать. Возьмите вы их певиц: какая техника, какие трели! А высокие ноты? А ферматы?[ii] Ведь это уму непостижимо, как они долго тянут звук!
Мусоргский начал играть. За столом разговаривали по-прежнему. Потом, притопывая в такт, подошел Оболенский, за ним потянулись остальные.
Друзья обступили Модеста:
– Веселей, Модя, веселей! Ну-ка, развей свою меланхолию, сыграй что-нибудь бурное.
Модест готов был их позабавить. Находясь среди друзей, он мирился с их вкусами, взглядами, хотя на самом деле иные вкусы и взгляды складывались в его сознании. Он был скрытен и никогда с друзьями об этом не говорил.
Ушел Мусоргский под утро хмельной, умиротворенный и грустный: еще одна беспутная ночь проведена. К счастью, сегодня вечером Кюи обещал прийти, и они снова сядут играть. Это другой мир, особенный, и в него Мусоргский никого не впускал.
Когда Кюи являлся, Юлия Ивановна обычно уходила из гостиной, предоставляя молодым людям свободу. Старший брат, Филарет, тоже чаще всего отсутствовал. Он жил своей жизнью – интересами полка, службой.
Усаживались за рояль, проигрывали пьесу за пьесой. Что ни новое сочинение, то открывалось такое, чего Модест не знал, о существовании чего даже не догадывался. Мир музыки был, оказывается, безграничен. Кюи знал этот мир гораздо лучше, но замечания, какие он делал, мало что задевали в душе Мусоргского.