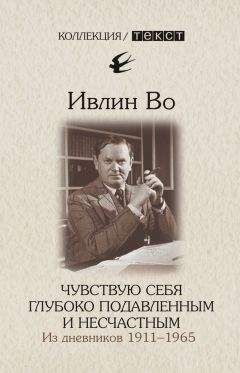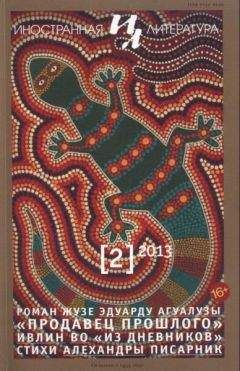Воскресенье, 16 октября 1921 года
<…> Сегодня послал отцу кое-какие официальные бумаги, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Дал ему знать, что уже одна мысль о том, чтобы задержаться в Лансинге еще на семестр, внушает мне ужас и что если я не получу стипендии, то готов ехать учиться в Оксфорд за минимальную плату. Попросил у него также разрешения найти в Лондоне работу с Рождества до экзаменов.
Этот семестр мне ненавистен – как ненавистен самому себе я. Удивительно, что Лонджу еще хватает терпения меня переносить. От бесконечного сидения за учебниками нервы у меня расшатались окончательно. Веду себя, как последний хам, – и отдаю себе в этом отчет. И деру нос – в соответствии с тем положением, какое занимаю в колледже; хуже всего то, что проникся официальным духом. Если же все мои старания пойдут насмарку и стипендии мне не дадут – возненавижу себя окончательно.
Сам толком не знаю, чего хочу. Знаю одно: в создавшемся положении здесь мне больше делать нечего. Уж лучше, как Фулфорд или Нэтресс, идти учителем в начальную школу.
Для всех, кому все до смерти надоело, мы с Кэрью создаем Клуб мертвецов. Президентом клуба буду я.
Среда, 19 октября 1921 года
Я помилован. Вчера вечером получил ответ от отца. Сочувствует и согласен, чтобы я ушел в этом семестре и либо ехал прямо в Оксфорд, либо во Францию. Настроение заметно поднялось. Но чтобы заработать стипендию, трудиться придется до умопомрачения. Оценить свои шансы я совершенно не в состоянии. Чувствую только, что, если стипендию получу, буду абсолютно счастлив; если нет – глубоко несчастен. Логики в этом рассуждении явно не хватает.
Клуб мертвецов процветает. Решили, что члены клуба будут носить в петлице черную шелковую ленточку. <…> Во что превратился мой почерк! Последние несколько дней совершенно бессмысленны. Вчерашнее заседание Шекспировского общества – скучней некуда. Уходить – самое время. Не уйду – окончательно замкнусь в себе или, чего доброго, влюблюсь черт знает в кого.
Воскресенье, 30 октября 1921 года
Еще один беспросветный день. Довольно славный новый пастор – ножки тоненькие и кривые. Распеваем в духе церковного гимна: «Сколь прекрасны ноги твои, о проповедник Святого Евангелия!»
Пришел к выводу, что все сказанное мне ректором – полная чушь. Возвращаться сюда не имеет никакого смысла.
Пятница, 11 ноября 1921 года
Пребываю в тоске – как обычно. Вчера какая-то мелкая сошка из Оксфорда вернула мое заявление: неправильно, дескать, составлено, к тому же от кандидатов на стипендию по истории требуется знание двух языков. Будем надеяться, что это не более чем сатанинская секретарская шутка. В противном случае сдавать на стипендию – пустое дело: французский язык – в том виде, в каком он у меня сейчас, – постыдный фарс, не более того. <…> Отец отказывается обсуждать мои планы на ближайшие полгода. Жизнь меж тем скучна и невыразительна.
Сегодня утром состоялось двухминутное молчание в память о погибших за родину. Во второй половине дня будет торжественная линейка. Здесь я зря трачу время – на этот счет у меня ни малейших сомнений. Интереса к истории у меня по-прежнему никакого. Академическая карьера не для меня. Не уверен даже, что мне так уж нужен Оксфорд. Но ничего не попишешь – обратного пути нет.
Понедельник, 21 ноября 1921 года <…> На днях произошел забавный случай, лишний раз подтвердивший, какая у меня в колледже репутация. Ректор отозвал меня из зала, чтобы расспросить о моих премиях и узнать, написал ли я некролог памяти Перси Бейтса [70] . Лондж поинтересовался, что случилось, и я ответил, что меня выгоняют за аморалку. Он, естественно, не поверил, однако не преминул сообщить об этом Дэвису, и тот, приняв сказанное за чистую монету, сообщил о случившемся не только старшеклассникам, но и вообще всему колледжу. «Я, если честно, нисколько не удивился, ожидал, что нечто подобное рано или поздно произойдет». В результате, последние несколько дней ко мне то и дело подходят соученики со словами сочувствия: «Да, не повезло, старик. И с кем же ты спутался?» Многие поверили, Кэрью в том числе. Мне-то, разумеется, наплевать, просто забавно, ведь жизнь я здесь веду поистине праведную, если не считать, конечно, разговоров. А впрочем, я давно заметил: тот, кто избегает дурных слов, способен на дурные дела.
Среда, 23 ноября 1921 года
Через три недели, если только я не провалился, мне станут известны результаты экзаменов на стипендию.
Из нашей жизни, мне кажется, ушло главное – дружба. Никто, по-моему, не заводит больше настоящих друзей – об увлечениях не говорю. Если дружба и сохраняется, то единственно в нашей памяти.
Сегодня вечером – стоя, как всегда, на коврике перед камином – Кэрью излил мне душу. Теперь я понимаю: с моей стороны было ошибкой пытаться переделать своих друзей под себя.
Вторник, 6 декабря 1921 года
Сегодня утром в 9.30 сдавал общий экзамен. Мне он понравился – как, впрочем, и всем остальным. Всего сдающих собралось человек пятьдесят – шестьдесят: все как один – разбойники с большой дороги, но разбойники-интеллектуалы. Я отвечал на четыре вопроса. Первый – моя любимая биография. Я выбрал «Бердслея» Артура Саймонса [71] и написал вроде бы неплохо, во всяком случае, довольно живо. Затем, сильно рискуя, ответил на вопрос: «Внес ли девятнадцатый век свой оригинальный вклад в живопись и архитектуру?» Исписал страниц пять – в общем, остался собой доволен. Затем последовал каверзный вопрос о Таците – является ли он самым «актуальным» античным автором, а также вопрос о том, «существуют ли темы, совершенно непригодные для поэзии». На последний вопрос ответ я дал довольно расплывчатый, вылившийся в панегирик Руперту Бруку [72] . В целом же, думаю, впечатление я произвел благоприятное.
С переводом с листа Ливия я справился, но не более того – впрочем, это ведь еще только предварительный экзамен. Сегодня вечером переводим с французского – и тоже с листа. Вот где будет комедия! А завтра начнется самое серьезное: английская история и эссе.
Лансинг, суббота 10 декабря 1921 года
Прошлая неделя выдалась самой в моей жизни счастливой. Как я сдал экзамен, мне, правда, пока неизвестно. Не буду удивлен, если я получил положительный балл, или огорчен, если провалился. Французский текст я переводил лучше, чем ожидал, а английскую историю ответил и вовсе не плохо. Мне попались английская Реформация и младший Питт [73] . Хуже всего получилось эссе – тяжеловесное, многословное, претенциозное. Viva [74] сдал превосходно. Гоняли меня по сельскому хозяйству восемнадцатого века, но при этом были со мной очень обходительны, я же, по-моему, – умен. <…>