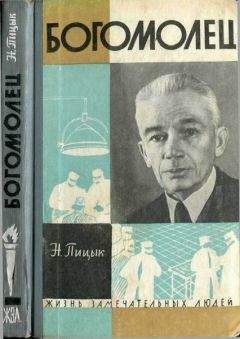Первое свиданье было коротким.
— С прискорбием, но — время!
Сашко в отчаянии перевел взор с тюремщика на мать:
— Разрешите еще!
— Сегодня такой день! — не проговорила, а простонала Софья. — Ведь сына я не видела девять лет!.. — И уже сдавленным от горечи голосом добавила: — И сколько осталось…
— Ступай, говорю! — орал надзиратель на Сашу. — А ты, каторжница, не забывай, где находишься!
К счастью, так было только раз. Из Иркутска прибыло предписание: встречам сына с матерью не препятствовать, а мужа к больной допускать дважды в неделю.
Караульный не упустил случая сказать Сашку:
— Вишь какой царь-батюшка — к матери пускает!
— Думаете, добрый? А зачем он маму в Сибири держит?
Иногда, правда, караульный оставляет их вдвоем. Тогда можно говорить без конца обо всем на свете.
Только вот смеяться не разрешают. Тюремщикам кажется, что это уже непорядок, если в тюрьме смеются. Маму это всегда выводит из равновесия. Она начинает тяжело кашлять. А Сашко греет ее озябшие пальцы, кутает в одеяло ноги…
Пусть надзиратель морщится, когда Сашко приносит матери цветы. Все равно он будет собирать их по склонам сопок — то кроваво-красные саранки, то дикие орхидеи — «кукушкины слезы», то болотные ирисы на высоких стеблях, то красные пионы. Мама счастлива: цветы для нее — это посланцы из другого, полузабытого уже мира.
Сибирское лето короткое. Увядают розовые цветы на зарослях смолистого багульника. Утренняя свежесть все чаще напоминает, что дело идет к осени. Софье с каждым днем становится все хуже: туберкулез неумолимо разрушает легкие.
А хлопоты Александра Михайловича о переводе Софьи Николаевны в разряд внетюремных каторжников остаются бесплодными.
Сашко с детской непосредственностью досаждает:
— Мамусь, когда ты будешь с нами?
— Не знаю, родной! — И после паузы: — Вообще вряд ли…
Когда впервые горлом хлынула кровь, невеселые мысли сковали Софью. Поняла: до десятилетия сына не дожить. Как взрослому, сказала ему:
— Друг мой, пойми: мне недолго осталось жить. Тяжело расставаться с. тобой и папой… Я вас очень люблю… Но еще сильнее — наш народ. Жаль, мало я сделала для него. Когда вырастешь, послужи и ты ему… Это моя единственная просьба к тебе…
И замолчала… Лежала без кровинки в лице, прикрывая краем одеяла губы. По исхудалым щекам градом катились слезы.
— Прости мне сиротское детство, что я тебе, сынок, дала, и не стыдись своей матери-каторжанки!.. — говорила, сдерживая рыдания. — Будет время, когда жизнь наша станет далеким прошлым… Тогда и нас добром помянут.
Подняла свою ослабевшую руку, пальцами провела по непокорным вихрам Сашка.
— Возьми на память «Кобзарь» и кошелечек. Я сама переплела книгу и на обложке васильки вышила. Это и все твое наследство…
Плотно закрыла глаза, замолчала. Огонек в лампе тускнел, сгущая сумрак. Камера напоминала могилу.
С этого дня Софья Николаевна стала безучастна ко всему. Неподвижно смотрела вдаль, будто надеялась увидеть там что-то важное. Обессиленная приступами удушья, то и дело впадала в забытье. Только изредка подзывала мужа и с надеждой искала в его взгляде отрицания собственного предчувствия. Александр Михайлович пробовал утешать:
— Зачем, Софьюшка, эти мысли? Вот выпустят на свободу… Питание, воздух сделают свое дело.
А сам, врач, понимал — конец.
Когда пришло разрешение на перевод во внетюремный разряд каторги, Софья Николаевна немного повеселела. Сашко сквозь сон слышал, как отец с матерью говорили, говорили без устали, листали пестрые воспоминания молодости.
Но уже на третий день после выхода из тюрьмы больной стало хуже. Сашка отправили в хозяйскую половину избы, а когда он, обеспокоенный суетой, заглянул в комнату, понял: матери не стало… Хотелось крикнуть: «Что же это такое?» А губы только прошептали:
— Мама! Мамочка!..
Молчит и не спросит: «Это ты, сынок?»
И никогда уже не спросит…
Отец смотрит на нее — любимую, единственную на всю жизнь — глазами, страшными своей бездонной пустотой. Время от времени он укоризненно качает головой, будто говорит: «Зачем ты это сделала?»
Сашко в отчаянии шепчет:
— Как же так? — И страшная, жгучая боль заливает его маленькое сердце.
Бушует неуемный сибирский ветер. От его порывов вздрагивает изба, звенят оконные стекла. И двум только что осиротевшим людям кажется, что в этом царстве мертвящего холода остался один ветер да они со своим неутешным горем.
Двадцать дней и ночей в ожидании ответа из Петербурга отец и сын оберегают безмолвие наступившей смерти. Им страстно хочется исполнить волю умершей: похоронить ее на Украине.
Сашко уже привык к тому, что папа часами просиживает возле окоченевшего тела. Он гладит мамины волосы, пытается расправить застывшие у переносицы две горькие складки и что-то шепотом рассказывает ей…
Острой болью впивается в мозг мальчика холодное и непонятное «нет ее больше» и отбрасывается, чтобы тут же вернуться. Эта бешеная схватка длится часы, дни, недели. Особенно мучительны вечера. Затрещат в печи дрова, пробежит собака, постучит в стекло гулящий ветер, а Сашку кажется — это мама ожила, сейчас откроет дверь из горницы.
И размечтается. Вот войдет врач, выслушает маму, даст ей не ведомое еще никому лекарство, и через несколько секунд она подымется, полной грудью наберет воздух и с радостной улыбкой скажет: «Вот я и выздоровела!»
Тем временем идут, идут депеши из Читы в Хабаровск, из Иркутска в Петербург — тираны держат совет:
«Признаете ли удобным уважить желание мужа покойной каторжанки Богомолец увезти тело на Украину?»
«Со своей стороны ходатайство полагал бы отклонить…»
«…Просьбу врача Богомольца передайте на благоусмотрение министра».
Министр же отказал в просьбе.
…Жестокий мороз, частые и резкие порывы ветра издалека приносят и со скрипом гонят дальше облака снежной пыли. Кладбище — жалкий, голый город мертвых безвестных героев с занесенными снегом тюремными крестами. Каторжане-вольнопоселенцы тесным кольцом окружили могилу. Сашко видит их скорбные лица, отчаянно беспомощного от горя отца и мамины тонкие, почти детские руки, вытянутые вдоль туловища. Они как бы говорят: «Я не сдалась, не покорилась! Я и сейчас в рядах сражающихся!..»
Глухо стучат по крышке гроба комки обледенелой земли. Сашко сурово сдвинул брови, и одна-единственная слеза, скованная морозом, застыла на реснице.
Люди подходят к свежему холмику и, не крестясь, кланяются мертвой. Кто-то шепчет Саше:
— Запомни все!