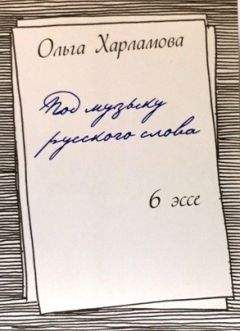Лермонтов, а позднее Достоевский, учились на его художественных произведениях реалистическому отображению действительности. Имя его было хорошо известно современникам, но в XXI веке о нем мало кто помнит.
Николай Павлов — личность незаурядная, противоречивая, трагическая.
Нет! Я не верю в наслажденья,
Которые сулит любовь,
И не хочу для заблужденья,
Как многие, родиться вновь!
Нет, нет! Я не рожден с благословеньем неба,
Не ждет меня бессмертия венец,
Не буду никогда жрецом прекрасным Феба!..
Ударит час… могила — мой конец.
Человек везде равно достоин внимания, потому-то в жизни каждого, кто бы он ни был, как бы ни провел свой век, мы встретим или чувство, или слово, или происшествие, от которых поникнет голова, привыкшая к размышлению. Приглядись к мирному жильцу земли, к последнему из людей: в нем найдешь пищу для испытующего духа точно так же, как в человеке, который при глазах целого мира пронесется на волнах жизни из края в край, кого закинут они на высоту бессмертного счастия или сбросят в пропасть бессмертных бедствий. Сильный характер обнаруживается часто в тесном кругу, под домашнею кровлей.
Из повести Николая Павлова «Именины», опубликованной в книге «Три повести». Москва. 1835Повесть эта во многом автобиографическая. Литературный герой, «штабс-ротмистр С.», и сам автор объединены одним общим характером. В них явилась «верность действительности», «письмо с натуры». (В. Г. Белинский ).
«Штабс-ротмистр С. схватил недопитый стакан, бросился на диван и, крутя рукой красивый ус, начал рассказывать: “Когда я родился, то ни одна словоохотная цыганка не смела бы предсказать, что этот сюртук будет на моих плечах и этот крест на моей груди. Няньки не ухаживали за моим младенчеством, не убаюкивали моей колыбели, и мать моя не приходила в ужас, когда я бегал по грязи босыми ногами. Не это вино назначено было (и стакан дрожал в его руке) развеселять мою голову, и если б я послушался своей судьбы, то не с вами бы садиться мне за ужин”».
Несмотря на некоторые, не особенно благоприятные обстоятельства, способствующие рождению будущего литератора, судьба его поначалу складывалась довольно успешно. Будущий писатель появился на свет 7 сентября 1803 года, в Москве, ходили слухи, что он — незаконный сын помещика В. М. Грушецкого и грузинки, привезенной из персидского похода. Младенца нарекли Николаем и «передали» в семью крепостного дворового крестьянина Филиппа Павлова. Мальчик воспитывался в крестьянской семье, но благодаря помещичьей опеке получил хорошее образование и, помимо общего учебного курса овладел немецким французским и латинским языками.
Семи лет от роду Николай Павлов был отпущен на волю и зачислен воспитанником Театрального училища при дирекции Московских императорских театров.
«В один день, — продолжал рассказ штабс-ротмистр С., — он был звезда моей жизни, второе рождение мое, театральный свисток, по которому меняется декорация, — в один день мне осмотрели зубы и губы; по осмотру заключили, что я флейта, отчего и отдали меня учиться на флейте. Я плакал, но ни одно сердце не откликнулось на беззащитный плач мой, никто не прижал ребенка к теплой груди и не постарался ласками отереть его слезы.
Ах, покуда струна, покуда голос будут потрясать воздух, до тех пор половина меня может страдать, но другая все будет наслаждаться! Поневоле я стал учиться на флейте, но скоро пристрастился к ней; музыкальные способности развернулись во мне».
Судьба по-прежнему благосклонна к Николаю Павлову. Ему покровительствует директор Театрального училища Ф. Ф. Кокошкин и часто приглашает его в свой дом, где талантливый, энергичный юноша впервые знакомится с литераторами, художниками, композиторами, получает представление о незнакомой ему жизни светского общества.
«Много лет прошло, — продолжал штабс-ротмистр, — много лет прошло, как мало-помалу я начал знакомиться с известными артистами в Москве, бросил флейту, оказал большие успехи на скрипке и на фортепьяно… Наконец пение сделалось моим исключительным занятием.
Молодой человек, мой благодетель, полюбил меня как равного, как друга. Я все время, которым мог располагать, проводил у него. Он дал мне средства совершенствовать мой талант, заставлял меня читать книги, приучил говорить по-человечески, не краснея, не думая, что я не стою чести, чтоб со мной разговаривали. Словом, он пересоздавал меня, счищал ржавчину с моего ума и с моей души. Любители музыки дорожили моим дарованием, звали на квартеты, заставляли петь; но в их глазах я был только музыкант… певец… или, лучше сказать, машина, которая играет и поет, к которой во время игры и пения стоят лицом, а после поворачиваются спиною. Верьте, что не сметь сесть, не знать, куда и как сесть, — это самое мучительное чувство!
Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто попадется. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу, и развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед богачом?»
В доме Кокошкина Павлову иногда приходится прислуживать гостям за столом, с ним обходятся как с другими слугами, что ранит самолюбие молодого человека, он страдает. Унижают его и второсортные роли, которые он получает в театральной труппе. Нет, не пришлось ему по душе актерство, он уходит из театра, не прослужив и года.
Как быстрая волна в безбрежности морей,
Как в сердце пламенном обманчивая радость,
Как первая любовь беспечных юных дней,
Моя умчится младость.
Николай Павлов начинает заниматься сочинительством, получая от этого удовольствие, и легко поступает на отделение словесных наук Московского университета. Он видит себя на юридическом поприще, полагает, что сможет принести пользу людям бедным и угнетенным, судьба которых хорошо известна ему по собственному опыту.
«Заметьте, что я уже умел довольно смело предстать пред многочисленное заседание гостиной, — вел свой рассказ дальше штабс-ротмистр С. — Когда я говорю «довольно смело» — это значит, что я уже ходил не на цыпочках, что я уже ступаю всею ногою и ноги мои не путались, хотя еще не было в них этой красивой свободы, с которою я теперь кладу их одна на другую, подгибаю, шаркаю и стучу… Я мог уже при многих перейти с одного конца комнаты на другой, отвечать вслух; но все мне было покойнее держаться около какого-нибудь угла; но все, желая пощеголять знанием светской вежливости, я к каждому слову прибавлял еще “…с”».