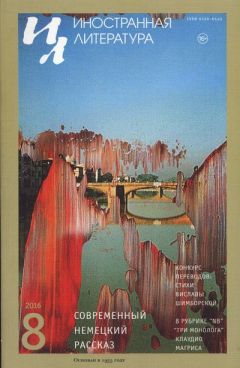Толпа, которая их окружала, тоже смеялась. Честно говоря, это и в самом деле было смешно: маленький человечек на деревянной бочке, а его борода становится все короче и короче, исчезает под лязганье портновских ножниц. Как трюк в кино.
Гетто еще не было, и такая сцена не предвещала грозы. Ведь ничего страшного с евреем не происходило: правда, можно было безнаказанно поставить человека на бочку, люди понимали, что безнаказанно и что это смешно.
Знаешь что?
Вот тогда-то я и понял, что самое главное — не позволить загнать себя на бочку. Никогда и никому. Понимаешь?
Все, что я потом делал, делал для того, чтобы этого не позволить.
— Но война только началась, и ты мог уехать. Твои товарищи бежали тогда через зеленую границу туда, где не было бочек…
— Это были совсем другие люди. Замечательные ребята из образованных семей. Они прекрасно учились, дома у них были телефоны, на стенах там висели прекрасные картины. Подлинные, а не репродукции. Я в сравнении с ними был никто. Я не принадлежал к их кругу. Учился хуже, пел неважно, не умел ездить на велосипеде, семьи у меня не было, мать умерла, когда мне было четырнадцать лет. (Colitis ulceroza, язвенное воспаление кишок. Первый пациент, которого я лечил, страдал именно этим заболеванием. Но появились энкортон и пенициллин, и больной вылечился за пару недель.)
— Так о чем мы говорили?
— Товарищи уехали.
— Видишь ли, до войны я говорил евреям, что их место здесь, в Польше. Что здесь будет социализм и они должны остаться. Ну, а когда остались, началась война, потом началось то, что делали в этой войне с евреями, — так мог ли я отсюда уехать?
После войны мои товарищи стали директорами разных японских концернов, физиками в американской ядерной промышленности, профессорами университетов. Я же говорил, это были очень способные люди.
— Но тогда и ты уже продвинулся. Был в числе героев. Они могли принять тебя в свой элитарный круг.
— Они предлагали, чтобы я приехал. Но я проводил на Умшлагплац четыреста тысяч человек. Сам, лично. Все прошли мимо меня, когда я там стоял. Послушай, перестань, наконец, задавать эти бессмысленные вопросы. «Почему остался», «почему остался».
— Но я и не спрашиваю.
— …
— Ну?
— Что «ну»?
— Говори о цветах. Впрочем, все равно о чем. Можно и о цветах. Ты же получаешь их в каждую годовщину восстания, неизвестно от кого. Тридцать два букета.
— Тридцать один. В шестьдесят восьмом я не получил. Было неприятно, но потом получил опять и получаю до сих пор. Однажды это были калужницы, в прошлом году — розы, в этом — нарциссы. Обязательно желтые цветы. Их молча приносит рассыльный из цветочного магазина.
— Не знаю, следует ли об этом писать: анонимные желтые цветы… Дешевая литература. С тобой вечно происходят какие-то безвкусные истории. Например, проститутки, которые каждый день давали тебе булку. Стоит ли писать, что в гетто были проститутки?
— Не знаю, наверное, нет. В гетто должны быть мученики и жанны д'арк, да? Но если хочешь знать, то в бункере на Милой с группой Анелевича было несколько проституток и даже один альфонс. Такой огромный, с мощными бицепсами, весь в татуировке, он ими командовал. А девушки были хорошие, хозяйственные. Мы перебрались к ним в бункер, когда начался пожар на нашем участке. Там были все — Анелевич, Целина, Лютек, Юрек Вильнер, мы так радовались, что мы вместе… Те девушки дали нам поесть, у Гуты были сигареты «Юно». Это был самый лучший день в гетто.
Когда позже мы вернулись туда, все уже свершилось, и не было ни Анелевича, ни Лютека, ни Юрека Вильнера, девушек мы обнаружили в соседнем доме.
На следующий день мы спускались в каналы.
Все вошли, я был последним; одна девушка спросила, могут ли и они пойти с нами на арийскую сторону. Я ответил: нет.
Вот так.
И очень тебя прошу, не требуй объяснений, почему тогда я сказал «нет».
— А раньше, находясь в гетто, у тебя была возможность пройти на арийскую сторону?
— На арийскую сторону я выходил каждый день, легально. Я был рассыльным больницы и носил на анализ кровь больных тифом. На эпидемиологическую станцию на улице Новогродской.
У меня был пропуск. В гетто было всего несколько пропусков: в больнице на Чистом, в Совете[15], а у нас в больнице пропуск имел только я. Люди из Совета, чиновники, ходили в учреждения, ездили на извозчиках. А я со своей повязкой шел по улицам, среди толпы, и все кругом смотрели на меня и на мою повязку. Смотрели с интересом, с участием, порой с насмешкой…
Так я ходил каждый день, в восемь утра, в течение двух лет, и в общем ничего страшного со мной не случилось. Никто меня не задержал, не вызвал полицейского, даже не смеялся. Люди только смотрели. Смотрели на меня…
— Я спросила тебя, почему ты не остался на арийской стороне.
— Не знаю. Сегодня трудно сказать почему.
— До войны ты был никем. Как случилось, что ты стал членом штаба ЖОБ? Ты стал одним из пятерых, что были выбраны из трехсот тысяч…
— Там должен был быть не я. Должен был… а, все равно. Назовем его Адам. До войны он окончил военное училище, принимал участие в сентябрьских операциях[16], защищал Модлин. Все знали его храбрость. Долгие годы он был для меня настоящим божеством.
Однажды мы шли по улице Лешна, кругом толпы людей; вдруг какие-то эсэсовцы начали стрелять.
Толпа бросилась бежать. Он тоже.
Понимаешь, до этого я даже не представлял, что он может чего-то бояться. А он, мой идол, побежал.
Он привык к тому, что всегда имел оружие: в военном училище, в Варшаве в сентябре, в Модлине. У врага было оружие, у него тоже, потому он и был храбрым. А когда получилось, что те стреляли, а он не мог, он стал другим человеком.
Все случилось без лишних слов, постепенно; его деятельность сошла на нет. И когда должно было состояться первое заседание штаба, он уже не годился для того, чтобы туда идти. Пошел я.
У него была девушка, Аня. Ее взяли в Павяк[17], потом она выбралась оттуда; но, когда ее взяли, он сломался окончательно. Пришел к нам, оперся руками о стол и начал говорить, что мы и так все погибнем, нас вырежут, а мы молоды, и надо бежать в леса…
Никто его не прерывал.
Когда он ушел, кто-то сказал, что это из-за того, что взяли Аню. И теперь у него нет никого, ради кого стоит жить. У каждого должен быть кто-нибудь, с кем была бы связана вся жизнь, ради кого стоит существовать. А пассивность означала верную смерть. Активность была единственным шансом выжить: что-то делать, куда-то идти.
Вся эта казуистика не имела никакого значения, поскольку и так все гибли, но человек все-таки не ждал своей очереди в бездействии.