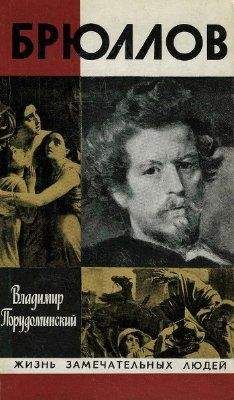Единственная картина, которую в своей статье подробно разбирает Батюшков, как раз «Истязание Спасителя». Картину превозносили профессора академии и профессора анатомии, но Батюшков не находит в ней ничего нового, необыкновенного, — своей мысли, а не чужой. Точности рисунка и анатомической точности Батюшкову мало: «Я ищу в ней пищи для ума, для сердца; желаю, чтобы она сделала на меня сильное впечатление, чтобы она оставила в сердце моем продолжительное воспоминание».
Для профессора Егорова ученик Карл Брюлло — радость сердцу и удивление уму.
В рисунках Брюлло все идеально правильно — ни изменить, ни поправить — и все при этом чуть-чуть не так. Под его, Карла Брюлло, рукою, смело управляемой его, Карла Брюлло, Брюллова, умом и сердцем, идеально правильное приобретало особость: ничего не нарушалось, но все произносилось со своим ударением, со своей интонацией — с замыслом и чувством.
Привычные изображения с гипсов, в зубах навязшие антики, нарисованные им, приобретают смысл, значительность и силу, натурщики — не срисованные фигуры и вообще не «фигуры», в них нет мертвой законченности упражнения, но всегда — остановленное мгновение жизни: они продолжают жить и действовать.
Натурщик или два, застывшие в позе посреди полуциркульного, амфитеатром, зала, для него не модель — образ, он не дробит мир на частности, запечатлевая одну из них, но связует видимые его части воедино, воссоздает мысленно целое, проницательно угадывая или чувствуя в каждой увиденной подробности отголосок, обломок события. Перед статуей в античной галерее он думает не об остеологии, науке о костях, не о мускульной анатомии и не о правилах штриховки и тушевки — он думает о человеке и судьбе.
(Много лет спустя — уже великий Брюллов — он возьмет из рук ученика рисунок торса Геркулеса, взглянет цепко и заговорит — не о костях, не о мышцах, не о пропорциях, впрочем, о том, о другом и о третьем, но взглянет он на них и о них заговорит совсем с другой стороны:
— Недурно, но вот эта линия лопатки непонятна: сухо; натушуйте ее мягче и поищите более красоты. Этот Геркулес уже на Олимпе. Формы тела его, кроме силы, облечены уже в божественную красоту…)
Итак, Лаокоон: группа из трех фигур высокой сложности.
Карл проводит ладонями по бумаге, приколотой булавками к доске, проверяет натяжение листа.
Не глядя, находит справа от доски карандаш.
Он сразу вбирает взглядом всю группу целиком и, не думая о том, тут же бессознательно определяет и закрепляет в памяти соотношения частей. Он физически чувствует напряженное равновесие, удерживающее фигуры в их сложном положении, тончайше рассчитанное движение коромысел плеч и таза, отчаянное мускульное сопротивление силе, стремящейся смять, разрушить каждую фигуру и вместе уничтожить целое. Он чувствует равновесие сил, рождающее прекрасное.
Он мысленно, и опять же не думая об этом, обтекает взглядом группу, сопрягает то, что видит, с тем, что недоступно его взору, ищет опору тому, что предстоит передать, в том, что лежит вне точки его зрения. Ему нужно держать в уме затылок, когда он станет рисовать нос, ощутить голову скульптуры не из плеч ее вырастающей, а венчающей спинной хребет.
Он внимательно ощупывает взглядом одетые могучими мышцами плечи Лаокоона; линия приподнятой вдохом груди и несколько запавшего живота ведет его взгляд к выступающему вперед правому колену героя. Карл опускает глаза к бумаге, ловит на ее поверхности точку для этого выдвинутого колена, и в тот же миг белый лист перестает быть двухмерной плоскостью и обретает бесконечной протяженности глубину.
…Дело было тридцать веков назад в Трое, осужденной богами на гибель. После долгой осады враги-ахейцы нежданно ушли от стен города, в седом море скрылись их корабли. Там, где вчера поднимались шатры ахейцев, где грозно кололи небо сдвинутые остриями копья, где щиты сверкали на солнце, застя ярким блеском прозрачные огни костров, лежала вокруг города желтая равнина в черных пятнах кострищ. Лишь огромный деревянный конь возвышался среди вытоптанного врагами поля. Троянцы вышли из городских ворот, окружили коня и дивились ему. Тут из прибрежных камышей привели юношу пленника, на теле его темнели раны, и одежда была в крови. Юноша просил сохранить ему жизнь, обещая за это открыть тайну коня. Рассказал юноша, что деревянное чудище дарует победу тем, кто им владеет. Решили троянцы разобрать стену и втащить коня в город. Один Лаокоон, мудрый жрец Аполлона, разгадал коварство врага. Он ударил коня копьем и услышал, как зазвенели доспехи воинов, спрятанных в деревянном теле.
— Неужели не слышите! — кричал он согражданам. — Горе вам, горе!
Две громадные змеи, посланные богами, покровителями ахейцев, выползли из морских волн и бросились на Лаокоона и двух его сыновей…
Не замечая движения карандаша по бумаге, Карл выслеживает сложные изгибы змеиных тел, намечает узлы и кольца, страшно связавшие в единую группу тела отца и несчастных его сыновей. Он поражается смелости ваятелей, угадавших возможность стянуть правую ногу Лаокоона с правой же ногой младшего сына; старший пока в лучшем положении — грудь его еще не сдавлена мощными кольцами, ядовитые зубы еще не нанесли ему смертельных укусов, в его лице, позе не столько ужас собственной гибели, сколько сострадание близким, но судьба его решена: петля вокруг левой щиколотки, в первое мгновение не пугающая зрителя, даже мало приметная, — подписанный приговор, и в этом тоже счастливая и дерзкая находка ваятелей.
Змея впилась Лаокоону в левое бедро, тело его метнулось вправо, стараясь отдалиться от укуса, лицо искажено страданием, мышцы рук предельно напряжены в стремлении разорвать, сбросить сжимающиеся на теле петли, ноги ищут крепкой опоры. Карл сосредоточен на мускулах груди и живота, важно схватить и передать их связь с выражением лица Лаокоона, с линией его рта: бесстрашный жрец не кричит в ужасе, а, судя по приподнятой груди и складкам живота, вдыхает воздух и с ним силу, чтобы продолжать борьбу.
Где же справедливость богов, думает Карл, если лучший из граждан, желающий добра соотечественникам, осужден на мучительную казнь. Он чувствует, как душой прикипает к страданиям Лаокоона. В каждом штрихе он ищет воспеть того, кто не унизил себя покорностью неправедной силе.
Тут важна точность тушевки, но только чувство сообщает выпуклостям и впадинам камня живые черты лица.
Будьте прокляты, слепые кумиры, поражающие героев и снисходительные к посредственностям!
Линия карандаша течет по бумаге, миловидное лицо Карла спокойно и замкнуто, но зрачки его светлых глаз широко распахнуты, он чувствует знойную сухость во рту, ему кажется, что горькие губы его кривятся гримасой боли и мужества, что мышцы его напряжены, он чувствует натяжение и выпуклость каждого мускула, забывая рыхлость своего небольшого тела. Линии текут по бумаге, как течет река, самостоятельно и непринужденно, учитывая рельеф дна, очертания берегов, лежащие на пути камни.