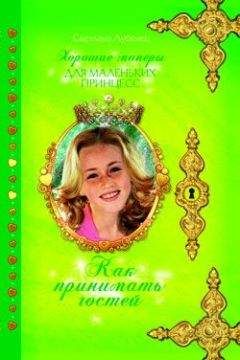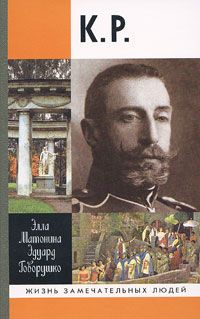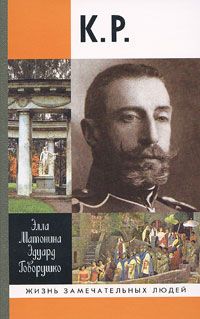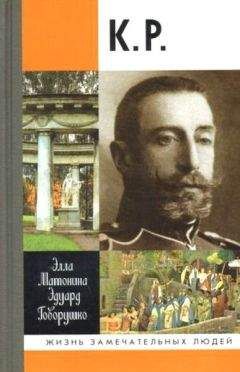пороху, кто был в сече, тот никогда не будет оглуплять этого человека. Он достойный противник, – вот что я вам, сударь, скажу. Я это знаю, я с ним бился и позже – и у Смоленска, и у Вязьмы, и у Бородина…
Так вот, в то утро Мюрат повел на нас французских драгун. Команда наша оплошала, и мы пошли в галоп, когда серые лошади с синими французскими драгунами были на расстоянии двух лошадей. Мы дрогнули, меня настигал с какими-то непонятными выкриками драгун; сравнявшись, он было занес саблю и с размаху опустил ее, но рука его оказалась неуверенной, робкой, и сабля пошла рикошетом по спине и плечам. Я бессознательно развернул лошадь, и лошадь француза с наскоку уперлась в круп моей. От удара драгун вылетел из седла, но успел ухватиться за холку лошади, поводья болтались сбоку вместе с саблей. Неуправляемая лошадь по инерции неслась рядом со мной. Все это длилось мгновение; проскочив овражек и лесок, мы оказались в нашем расположении. Я соскочил с лошади, француз же, обхватив холку лошади, недвижно сидел. Подбежали конвойные, сняли француза, но он не мог стоять на ногах, и его понесли в лазарет.
Вскоре в лазарете оказался и я. Кровоточила спина, хирург долго там возился и, наверное, в сотый раз за день, как и многим до меня, бодро сказал: «До свадьбы заживет».
В лазарете на перевязке лежал и тот самый драгун, что полоснул меня по спине. У него отнялись ноги. Я глянул на беспомощное тело, скорчившееся на железном столе. На меня смотрел мальчишка, безусый, смуглого лица, с испуганными детскими глазами. Он неожиданно встрепенулся, узнав меня, что-то залепетал, судорожно ощупывая карманы мундира, и достал трубку. Вот эту.
Помолчав, капитан сказал:
– И те рубцы на плечах, и эту трубку, как вы догадываетесь, я получил в один и тот же день от одного и того же человека в этой самой местности, где мы сейчас с вами находимся.
Бекетов повернул свое изрытое лицо к окнам, к темноте…
– А ведь вы, капитан, тогда могли изрубить драгунчика, – с холодной твердостью сказал Жигалин. – Отчего не сделали?
– А вы бы стали биться с безоружным, ротмистр? – глянул на Жигалина Бекетов. – Я не стал…
Наступило молчание. Никто не хотел говорить. Полковник смотрел на Костромина, Костромин – на Жигалина, Жигалин – на Ла Гранжа…
– Так вы действительно не хотели убивать того драгуна? – вдруг заговорил с горячностью Людвиг. – Он струсил, а вы сжалились? А как сказывают, жалость – самое низкое чувство…
– Есть немало людских пороков, но один из самых низких и недостойных – не жалость, а жестокость. В двенадцатом году французы не испытывали тягот до тех пор, пока не стали грабить, жечь, насильничать. Жестокость всегда имеет отсчет, отправную точку, и с этой точки она в определенное время валом обрушивается в обратную сторону. Француз это и посеял в прошлую войну.
За полночь успокоились. Людвигу и капитану постелили в гостиной. Капитан не спал. Он долго ворочался на диване, скрипел пружинами, то вздыхая, то ворча. Не спалось и Людвигу.
«Что же произошло сегодня? Все сплелось в один неразрешимый клубок – и капитан со словами о жестокости и милостью к мальчишке-французу, и Костромин с его жадным интересом к Мюрату, и сожженное французами имение полковника…
И черная сумка с вензелями… И листки в этой сумке, исписанные отцом…
Они радовали своим родством и до боли пугали… Зачем они? Нет, грех от них отказаться… Грех… А эти люди?… Капитан с кровавыми рубцами, Жигалин с гитарой, генеральский адъютант с любопытными и испуганными глазами… Кто они?» – думал Людвиг словно в тумане. Они его держали и не отпускали. Сквозь сон сильный и густой голос откуда-то сверху спросил:
– Ты чей будешь?
– Как чей? Чей? – мелькало туманно в голове. – Ты чей? – снова сказал голос.
Он с усилием открыл глаза – никого. С иконки под самым потолком смотрит святой. Горит лампадка.
– Фамилию я твою вроде слыхал где-то… Но где? – говорил Бекетов, поднося огонь к чубуку. – Ты случаем не из королевских подвижников, кто бежал от якобинцев к нашей царице?..
«Почему к царице? Царицы в Неаполитанском королевстве никогда не было, – определил Людвиг. – Король был, Мюрат, отец с ним, а царицы не было.
Огромные красные круги снова отделялись от лампадки и злыми огненными языками поднимались вверх, как в том не виданном им Смоленске. И в этом огне Мюрат с его отцом, штабным офицером… Что там с ними, что они там, в огне, искали?..
Туман в голове и что-то неясное, запутанное теснилось в его сознании. Ах да, черная сумка с вензелями…
Голова тяжела, и он никак не может выбраться из забытья с этой тяжелой черной сумкой с вензелями. Она все тянет и тянет то вниз, то в сторону… «С кем я могу составить свое будущее? Какая сила может вывести меня из этого состояния…» Вместе с видениями в сознание все время врываются звуки – ружейные выстрелы, стоны раненых, ржанье лошадей и орудийные залпы у самой головы… Это отец распорядился отмечать день рождения императора… Раз… два… три… – бьет тяжело батарея.
Он с усилием оторвал голову от подушки – огромные, под потолок, часы с круглым маятником и золочеными гирями пробили пять…
Он откинулся на подушку и уставился в окно. Ночь была туманная, сквозь окно таинственно пробивался лунный свет.
…Стоянка в этой уютной, приветливой деревеньке под Витебском затягивалась. По первоначальному предписанию отряд князя Хилкова должен был пойти на Брест-Литовск. Однако на подходе к нему был остановлен в связи с холерой, свирепствовавшей в округе. Вместе с холерой в Западном крае не на шутку разгулялись повстанцы. В Литве заговор кипятили поляки: по городам и местечкам сновали засланные из Варшавы польские «борцы» за свободу, с оружием в руках они творили беспорядки, жгли, грабили, убивали. Из Виленского университета, из многочисленных костелов летели прокламации и листовки.
В это время генерал-лейтенанту Хилкову поручается особый отряд для усмирения литовских мятежников в Витебской губернии. Князь хорошо знал эту местность, жизнь, нравы и настроения здешних людей. В 1812 году он здесь встречал французов жарким летом, а поздней метельной осенью провожал. И поэтому выполнять боевую задачу начинал не с чистого листа. Свой отряд князь разделил на две бригады. Одну оставил в Витебской губернии, а со второй бригадой двинулся к Вильно – туда поспешал польский генерал Гелгуд. В этой бригаде в составе партизанского отряда Дохтурова находился Людвиг Ла Гранж.
* *