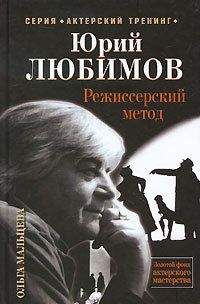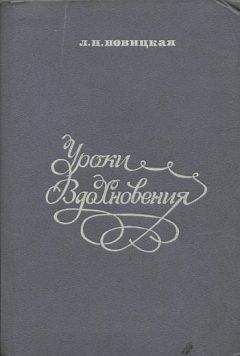В одной из наших последних совместных работ — в опере «Юдифь» — он был замечательным Олоферном. Партия трудная, написана для баритона, явно ему «не по голосу». Но он блистательно преодолевал вокальные сложности актерским мастерством. Он не прятал плохое пение за «энергичную игру», а подчинял качества голоса образу, состоянию. Строил в связи с ним и в зависимости от него характер фразы, мизансцены, общую концепцию роли.
Он не мог справиться с тесситурными трудностями сцены опьянения Олоферна и попросил меня дать ему как можно больше приспособлений, требующих физического напряжения и сосредоточенности. Ему надо было «сбить» вокальную неуверенность, переключить внимание на другое, занять себя другим. Мизансцены были сложные: Олоферн сваливался с ложа на пол, а потом, то привставая, то падая, метал во все стороны кинжалы-мечи, целую обойму которых ассирийские вожди носили на поясе. Каждый меч острием должен был точно попасть в цель и воткнуться в нее. В это время большая группа слуг в страхе медленно расползалась в стороны, что еще более усложняло задачу, так как малейшее отклонение от мизансцены грозило тем, что артист мог споткнуться о чье-нибудь тело, да и ножи не должны были упасть — можно было кого-нибудь поранить.
Освоив в совершенстве эти физические действия, Струков обрел необходимое самочувствие, его Олоферн становился разъяренным зверем, и природа вокала, освобожденная от страха, неуверенности и сомнения, каждый раз побеждала. На спевках в этом месте артист принужден был вставать и играть сцену — тогда голос подчинялся условному рефлексу, столь важному в технологии оперного артиста. Тренаж, тренаж, тренаж!..
Струков и «крестил» меня в режиссеры. Поскольку он был самым авторитетным артистом театра, ему поручили возобновление оперы «Тихий Дон» Дзержинского, поставленной три года назад режиссером, уже не работавшим в театре. Я был дан Струкову в помощники. Но случайно или нет в день первой большой репетиции у Ивана Яковлевича оказался ответственный спектакль (Мефистофель в «Фаусте»). Он не мог быть на репетиции, чему открыто радовался. Репетиция «свалилась» на мою голову.
— Но я ничего не знаю, я даже не видел спектакля…
— Никто ничего не знает!
— Артисты начнут меня поправлять, начнут задавать вопросы…
— А вы скажите, чтобы с вопросами обращались в перерыве.
— А в перерыве что я им скажу?
— В перерыве ни один уважающий себя артист вопросов задавать не будет. Всех как ветром сдует в буфет!
Этой науки мне хватило, чтобы провести репетицию, заслужить одобрение шестидесяти ее участников и тут же в директорском кабинете получить самостоятельную постановку — оперу «Кармен». Присутствующий при этом дирижер Лев Владимирович Любимов решительно взял меня за руку, сказал: «Пошли!» и повел в класс, при этом клавир «Кармен» уже был у него в руках: нельзя терять времени!
Лев Владимирович Любимов имел свое жизненное кредо: мы не такие таланты, чтобы не работать. Пот — вот наш талант. Мы должны работать как волы, тогда что-нибудь выйдет. И он умел заставлять работать всех, кто его окружал.
Уметь заставить работать! Это необходимое свойство и для режиссера и для дирижера. Помню, в Свердловске тенор-премьер С удивлением и приятной растерянностью сказал мне о Леониде Васильевиче Баратове: «Вот черт, даже меня заставил работать!»
Программа Любимова была элементарна. Надо вызубрить наизусть оперу, заниматься с актерами не столько, сколько они хотят, а сколько надо, то есть с утра до ночи. Надо все время выискивать и предупреждать возможные трудности, просчеты, недоделки, хотя бы они касались декораций, афиш или здоровья артистов. Ни минуты благодушия и спокойствия, все время быть начеку. Если нет хорошего артиста — можно из плохого сделать приличного, если нет плохого… — можно и зайца научить делать фокусы. Результат? Масса приятных неожиданностей, открытий: артист хора оказывается хорошим Елецким, прима-балерина и солист балета — прекрасной каскадной парой в оперетте. Риск плюс труд равняется победе — вот его девиз!
С самого начала он запрограммировал мой режиссерский успех и, опираясь на свой опыт (каких только он не видел режиссеров!), считал необходимым заставлять меня эту программу выполнять. Он не очень любил, когда я работал с другими дирижерами, но с первой репетиции и до конца своих дней поддерживал мой дух, говоря: «А кто еще?» Я понимал, что его доброе пристрастие ко мне спорно, но в трудные моменты жизни, которые ожидали меня в дальнейшем, оно очень помогало.
На обсуждении представителями Государственной комиссии моего дипломного спектакля атмосфера была такая, что любое недоброе слово в мой адрес могло вызвать взрыв возмущения в коллективе. И если для приличия член Госкомиссии собирался сделать малюсенькое замечание в адрес первой самостоятельной работы студента, Лев Владимирович делался пунцовым и так негодующе фыркал, что я боялся, что это может отразиться на отметке в дипломе. Такой был мой первый в жизни дирижер. Он заставил меня поверить в себя и научил трудолюбию. Он был так уверен во мне, что я из кожи лез, чтобы не обмануть его.
Другой дирижер, с которым я встретился в Горьком, был Исидор Аркадьевич Зак. После первой моей репетиции «Тихого Дона» он вошел в кабинет директора и сказал про меня: «Такого человека и при виннице держать не худо». В переводе это означало, что меня надо оставлять в театре. Его «наука» заключалась в другом: в скрупулезном анализе музыкальной драматургии оперы. В то время и он и я еще не знали первостепенного значения этой формулы. Просто, сидя за клавиром «Иоланты», мы искали смысл каждого такта, каждой музыкальной темы, ее оркестровой окраски. Ничего еще не конкретизировалось, никаких выводов не делалось, просто отмечалось. Этот скрупулезный труд играл важную роль, так как уберегал от вульгаризации и примитивного понимания музыкальной логики, не допускал, или, вернее, не подпускал к опасной в опере тенденции иллюстрирования музыки.
Нам все время хотелось ставить что-нибудь оригинальное, забытое или мало известное. Мы раньше ленинградцев поставили «Чародейку» Чайковского, раньше Большого театра — «Иоланту», ставили «Скупого» Рахманинова и… совсем не думали, что мы — «провинция». Музыкальная же общественность нам об этом все время напоминала — кроме публики никто наших усилий не знал и не видел. Поставленные же после нас в Москве и Ленинграде эти оперы объявлялись открытием «незаслуженно забытого». Увы, критикам не любопытно было сравнить эти спектакли, что было бы вполне правомерно, несмотря на явную неоднозначность возможностей.