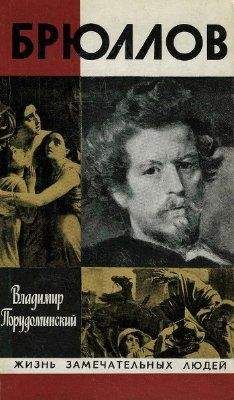Заслуженным, деловитым, безостановочно (как мечтал он в молодости) идущим вперед написал Карл в Петербурге брата Александра. Александр Павлович крепко и уверенно стоит у стола в своем кабинете. Одна рука по-хозяйски положена на расстеленный чертеж, другая уверенно упирается на большую папку с проектами. Холеное лицо, гладкая прическа, орденский крест на шее. Влажный блеск глаз и ощутимая мягкость губ не уничтожают деловитости и даже деловитой сухости облика, разве что придают ему некоторую сентиментальность…
С государем они будто в жмурки играли. Карла подталкивали к портрету, он же в последний момент, словно глаза завязаны, проскакивал мимо; вроде с языка обязано уже сорваться: мол, покорно прошу ваше величество — он смалчивал; государь никак не мог взять в разум, как это его художник не ищет чести оставить потомству его изображение, смалчивания и отговорки брюлловские раздражали. «Ведь вот он какой!» — с досадой говаривал государь о Брюллове. Николаю Павловичу первому надоело жмуриться и околичничать, не подобало ему, хотя и с великим Брюлловым. Однажды при встрече бросил благодушно: «Карл, пиши мой портрет». Карл шаркнул ножкой, забормотал что-то насчет холста да красок, государь, не слушая, объявил, что на другой день будет в мастерской, и час назначил.
В академии Карл заглянул в канцелярию: Николай Павлович глядел на него с крюгеровского овального холста — знаменитый поворот головы почти на две трети, взгляд величественный и решительный, грудь вперед, будто при равнении во фрунте… К назначенному часу он сам укрепил холст, приказал Илье Липину, своему «краскотеру», приготовить палитру, позвал в мастерскую еще одного ученика, благопристойного с виду Горецкого, сказал, что на всякий случай, но, если по правде, не хотелось оставаться с государем один на один. Дожидаясь гостя, быстро ходил взад и вперед по мастерской, сильно потел, то ли от волнения, то ли оттого, что вместо халата или серой рабочей куртки напялил черный бархатный сюртук, вытирал лицо и шею льняным полотенцем и повторял ученикам:
— Как вы счастливы, что не имеете нужды писать императорских портретов.
Николай Павлович, известно, держал часы пятью минутами вперед и никуда не опаздывал. Но тут, чудо просто, в назначенное время его не было. Карл остановился, бросил полотенце на пол — он вдруг перестал потеть. Счастливая мысль явилась ему. Таясь, выглянул в окно — не стоит ли уже царский экипаж у академических ворот: на улице было пусто. Карл весело блеснул глазами (вот на какой случай сгодится воспитанный Горецкий):
— Если приедет государь, сделайте милость, передайте ему: Карл Павлович, мол, ожидал ваше величество, но, зная, что вы никуда не опаздываете, заключил, что вы отложили сеанс до другого раза…
Николай Павлович с конференц-секретарем Григоровичем появился двадцать минут спустя. Не застав Брюллова, пришел в великое изумление, однако сдержался, с неподвижным лицом выслушал объяснение почтительно склонившегося перед ним Горецкого, повел, как бы усмехаясь, уголком рта: «Какой нетерпеливый мужчина!» — повернулся по-военному и так быстро затворил за собой дверь, что бедный Григорович даже не успел проскользнуть следом.
(Четыре десятилетия спустя, долгими зимними вечерами, почтенный старец Федор Иванович Иордан, медлительно приставляя словцо к словцу, рассказывал в своих мемориях про петербургскую жизнь Брюллова. Свидетелем оной жизни быть ему не довелось — он по-прежнему пропадал в Риме над начатой по мысли и настоянию Карла Павловича гравюрой с Рафаэлева «Преображения», однако пользовался свидетельствами брюлловских учеников. Пересказав историю ненаписанного царского портрета, прежде чем отделить прямой, как разрез, линией несколько страниц, посвященных Брюллову, от всего остального текста, старец Федор Иордан, к тому времени ректор Академии художеств, заключил: «Брюллов был враг самому себе».)
Иван Андреевич Крылов, обычно неподвижный, сидя на натуре, оказался возмутительно нетерпелив. Карл и зубы ему заговаривал, и заставлял учеников читать вслух, — тучный старик каждые четверть часа с неожиданной легкостью поднимался с кресел и твердил, что ему пора, что некогда, что время позднее, что Карл, хотя и Великий, такой же великий лентяй, — портрета все равно не закончит, завтра же забудет про него, только намучит сидением. Карл сердился, хватал Ивана Андреевича за плечи, силком заталкивал обратно в кресло и, распалясь, старался написать в один сеанс — другой раз старика в мастерскую калачом не заманишь. Работалось сладко: красивое, спокойное лицо Крылова, обрамленное легкими седыми волосами и бакенбардами, мудрые, всевидящие глаза, сдержанная, невеселая складка губ, его тучное тело, за внешней тяжелой неподвижностью которого угадывается решительность и способность действовать, — все будто само слетало с кисти, с непреднамеренной точностью располагалось на холсте. Оставалась ненаписанной кисть руки, лежащая на спинке кресла, когда Иван Андреевич встал на ноги с такой уверенностью, что ясно стало, больше уже не усадишь. Карл засмеялся: «Какой нетерпеливый мужчина!» — и показал кистью на кусок незакрашенного холста в том месте, где должна быть рука. Крылов, улыбаясь глазами, сказал: «Рука на твоей совести, Карл Павлович. Я пари держу, что ты ее до моей смерти не соберешься написать!»
(И, как всегда, напророчил мудрый старик: после кончины Ивана Андреевича приказал Брюллов ученику Горецкому окончить портрет; тот ничего лучше не нашел, как написать руку с гипсового слепка, мертвую руку приделал к живому, горячему портрету, бездарный, — счистить бы ее, пусть лучше дыра, пустая холстина, да покупатель тормошит, ему подавай, чтобы с рукой… Так и осталось.)
Гальберг умер внезапно. Накануне, утомившись работой, отложил стеку, ополоснул руки в тазу и целый час, должно быть, насвистывал на флейте веселую неаполитанскую песенку, и вот уже обрядили его в мало надеванный парадный мундир, и похоронные дроги, запряженные накрытыми черными попонами лошадьми, с факельщиками по обе стороны гроба двинулись от академических ворот через весь город к Волкову кладбищу. Многие провожавшие Самуила Ивановича в последнюю дорогу уже потянулись толпой вдоль набережной, когда на улице показался Брюллов, толстый одышливый человек с мощным торсом на коротких ногах, так, словно верх и низ его тела предназначались разным людям, но по ошибке достались одному, серое рыхлое лицо, отечные глаза с покрасневшими веками, висящие космы волос, не вьющихся, как обыкновенно, кудрями, — никакой не Аполлон, рано постаревший мужчина, кажется, уже и неспособный встряхнуться, возвратить молодость. Мокрицкий и молодой Коля Рамазанов хотели было вернуть его домой, нашептывали о нездоровье (а день был холодный, ветреный, черные тучи развевались плащами факельщиков), напоминали о взятом им правиле не бывать на похоронах, — Карл отмахнулся от них, не дал себя увести, догнал дроги и, держась рукою за какое-то витое кренделем украшение с облезлой, потемневшей позолотой, упрямо склонив голову, шел и шел до самого кладбища. Когда опустили гроб в могилу, на четверть заполненную мутной коричневой водой, когда, бросив в яму по горсти земли, отирая платками руки, направились к воротам провожавшие, когда и пастор уехал, и родные, только могильщики, шаркая лопатами, выравнивали холм, Брюллов оглядел нескольких учеников, своих и Гальберговых, не оставивших его в одиночестве, и, сам того не ожидая, заговорил. Он говорил об искусстве и о служении искусству, говорил вдохновенно, находя для каждой мысли, для каждого чувства единственно верные слова; все, кто был вокруг, жадно внимали ему, но никто не сумел после пересказать его речь, потому что все сказанное им будто и не воплощалось в звуки, а шло прямо из сердца в сердце. Ветер выл, раскачивая черные ветви над головой, Брюллов замолчал так же неожиданно, как начал, и, сильно горбясь, двинулся прочь, без страха думая о том, что до сорока лет, которые он назначил себе жить на этом свете, рукой подать.