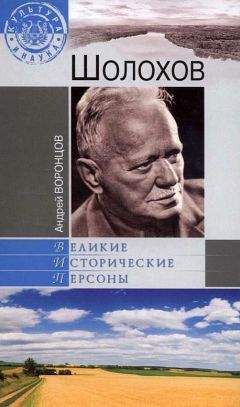— Это почему же?
— Одно дело сказать, что встречался со Сталиным, а другое — что пил со Сталиным чай.
— Может быть, вам лучше водки налить, товарищ Шолохов? Тогда вы скажете: водку со Сталиным пил.
— Ну, это уже наглость, — улыбнулся Михаил. — А потом — и не поверит никто. Для нас, писателей, важна достоверность. Даже если бы мы водки с вами выпили, все равно бы пришлось писать — чай.
Посмеиваясь, Сталин позвонил, распорядился принести чаю.
— Много слышал о вас, товарищ Шолохов, — сказал он, раскуривая трубку. — Все хотел повидаться лично, познакомиться. Как поживает ваша семья?
— Хорошо, товарищ Сталин. Сын у меня родился, назвали Александром, в честь моего отца.
— Поздравляю. Не трудно ли вам живется в деревне? Не хотите ли переехать в город?
Михаил замялся, посмотрел на Сталина исподлобья.
— Позвольте спросить вас откровенно, товарищ Сталин?
Сталин пошевелил бровями.
— Мы, коммунисты, должны быть откровенны друг с другом. Вы ведь, я слышал, стали членом партии?
— Пока — кандидатом.
— Все равно — вы теперь член большевистской семьи. Валяйте, — сделал приглашающий жест Сталин, хотя по нему было видно, что он любит не отвечать на откровенные вопросы, а сам задавать их.
— Про необходимость мне переехать в город вам говорили рапповские вожди и наше ростовское начальство?
— Многие говорили. И эти тоже. Вы с ними не согласны?
— Категорически не согласен. По моему глубокому убеждению, писатель должен рассказывать о жизни, невзирая на нее из какого-нибудь далека, а сам находясь в гуще событий. Я свою писательскую судьбу связал со своей родиной, с Доном, и не вижу причин уезжать оттуда.
— Одна коммунистка переслала мне ваше письмо, — помолчав, сказал Сталин. — Из него я понял, что вы не понимаете сути происходящих в деревне процессов, в частности — коллективизации.
Михаил горько усмехнулся.
— Товарищ Сталин! Вы были со мной откровенны, позвольте же и мне как кандидату в члены партии откровенно поделиться с вами своими сомнениями. До вашей статьи «Головокружение от успехов» я всерьез думал, что партия в организованном порядке решила избавиться от крестьянства.
Сталин озадаченно мигнул, нахмурился.
— Странное предположение. Если так, то кто же даст нам хлеб?
— Вот я и думал: откуда же возьмется хлеб, если уничтожают хлебороба? А ведь его уничтожали, товарищ Сталин, и я знаю, кто.
— Кто же? — отрывисто спросил Сталин.
«А он не совсем уверен, что я не скажу: «Вы!»», — отметил про себя Михаил, наблюдая за лицом Сталина. Он выдержал паузу, насколько хватало сил под пудовым взглядом генсека, и сказал:
— Троцкисты, которые присосались к вашей идее и под предлогом проведения ее в жизнь повторили на Дону то же самое, что делали в девятнадцатом году. А они тогда, как теперь уже совершенно ясно, провоцировали восстание казаков против советской власти.
Сталин опустил глаза.
— Вот я думаю, товарищ Шолохов, — помолчав, сказал он, — если у вас есть такие интересные наблюдения, если вы находитесь, как вы говорите, в гуще событий, то почему вы ничего не пишете об этом? Вы остались в стороне от проходящей на вашей родине коллективизации. Товарищи, которые считали целесообразным ваш переезд, исходили как раз из того, что события на Дону оказывают на вас скорее негативное, нежели положительное влияние.
— Товарищ Сталин! Ведь вам, наверное, известно, что я работаю над «Тихим Доном»! Создавать мне его приходится в тяжелых условиях. И об этом я тоже хотел поговорить с вами. Минуло уже более полутора лет, как под необоснованными предлогами задержана публикация третьей книги романа. Там как раз описаны злодеяния троцкистов в девятнадцатом году, приведшие к поражению Южфронта и к началу длительного наступления Деникина. Очевидно, кому-то очень бы не хотелось это вспоминать! Меня умело, расчетливо травят, сочиняют небылицы, что я украл «Тихий Дон» у того или иного человека, объявляют меня кулацким пособником. Мне нужно ответить клеветникам публикацией продолжения «Тихого Дона», а я лишен такой возможности.
Сталин кивнул.
— Об этом мне тоже писала ваша поклонница товарищ Левицкая. Летом на эту тему со мной говорил Серафимович. Проблему, действительно, надо решать. Но мы вернемся к «Тихому Дону» чуть позже, и вот почему. Насколько я понимаю, для завершения этого труда понадобятся годы. И что же, вы, один из лучших писателей Советского Союза, все это время останетесь в стороне от жгучих проблем современности?
— Такова особенность писательского труда, — развел руками Михаил. — Я же не журналист, чтобы оперативно реагировать на происходящие события.
— Однако другие ваши коллеги реагируют, и довольно оперативно. Они откладывают свои давние замыслы, чтобы помочь партии своим пером в данный момент. Я думаю, товарищ Шолохов, вы недооцениваете свои возможности. Говорят, вы в поразительно короткие сроки создали две книги «Тихого Дона». Отчего бы вам в столь же короткие сроки не написать насущно необходимую нам книгу о коллективизации? Новый роман о проблемах современности — лучший ответ вашим клеветникам. Это также будет и ответом тем, кто полагает, будто вы проникаетесь на Дону кулацкими настроениями.
Сталин замолчал, ожидая, очевидно, ответа Михаила. Глядя на дно своей чашки и размышляя над его неожиданным предложением, Михаил вдруг подумал: «Это что — условие? Судьба «Тихого Дона» ставится в зависимость от написания нового романа?» Самое интересное, что Михаил, потрясенный происходящим в деревне переворотом, действительно начал писать о нем без всякого приглашения Сталина. Но стоит ли ему говорить об этом сейчас? Не поймет ли Сталин его добровольный почин как слабость, как заведомую готовность смириться с запрещением «Тихого Дона»? Он поднял глаза на генсека. Тот спокойно смотрел на него, как будто даже чуть-чуть усмехаясь.
«Почему же ты замолчал? — безмолвно спрашивал его Михаил. — Я тебе роман о коллективизации, а ты мне что — дырку от бублика? Я брошу «Тихий Дон», сяду за новую вещь, а взамен получу согласие «вернуться к проблеме»? Нет, товарищ Сталин, так не пойдет!»
Лицо Сталина было по-прежнему непроницаемо. «Если я не хочу проиграть, сейчас мне нужно говорить все, что я думаю по этому поводу, — решил Михаил. — Такие, как он, ловят людей на недомолвках».
— Товарищ Сталин! — твердо сказал он. — Неоконченное дело гнетет еще больше, чем неначатое. «Тихий Дон» — дело всей моей жизни. Я не найду в себе ни моральных, ни физических сил браться за новый роман, если останусь в безвестности о судьбе «Тихого Дона».