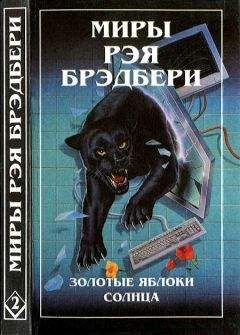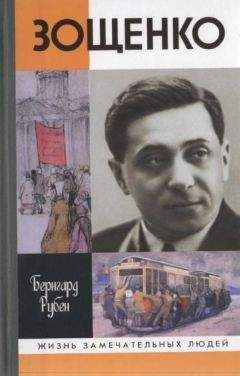И неоконченная строфа:
Пока нас не будил под утро
Тяжелый топот першеронов,
Везущих молоко на рынки…
На полях этого черновика есть помета: «Февраль 1909»; отмечу, что в своем последнем стихотворении, посвященном Эренбургу, подводя итог итогов прожитого и пытаясь одним словом определить сущность своего возлюбленного, Полонская называет его «мой воинственный». Приведем здесь и не публиковавшееся Полонской посвященное Эренбургу стихотворение «Ботанический сад» — оно не нуждается в комментариях:
Не в сказках Андерсена мы, —
Любовь двух сахарных коврижек —
Нет, это было в дни зимы
В далеком, дорогом Париже.
Когда ты будешь умирать
Во сне, в бреду, в томленье страшном,
Приду я, чтобы рассказать
Тебе о милом, о тогдашнем.
И кедр распустится в саду,
Мы на балкон откроем двери
И будем слушать, как в аду
Кричат прикованные звери.
И в темной комнате вдвоем,
Как в сказке маленькие дети
Мы вместе вновь переживем
Любовь, единую на свете.
Как лава, охладеет кровь,
Душа застынет тонкой коркой,
Но вот, останется любовь
Во мне миндалиною горькой.
3 марта 1921.
Обратим внимание на выделенное этими стихами время — зима, то есть февраль (вот когда любовь была самой счастливой). Горечь в стихах Полонской, обращенных к Эренбургу, ощущается всегда, здесь она открыто названа. В воспоминаниях Эренбурга, на тех страницах, где речь идет о Полонской, горечи нет; в его письмах к Е. Г., там, где вспоминается 1909 год, все обходится также без горечи: «А помнишь завтраки на Guy de la Brosse: бананы, petit-beurre („lu“)[969] и голубоглазая девушка, которую звали Наташей[970]? Еще: чай на улитках?», или, в другом письме: «Что касается моей механистичности (в любви — Б.Ф.), то… тебе видней». Тут следует сказать, что Эренбург был неизменно влюбчив, пылок, темпераментен (Полонская говорит еще: самонадеян), и однолюбом не был никогда. Той же самой весной 1909 года, когда ему «нужно было сказать Лизе очень многое», он встречался с Тамарой Надольской, девушкой с лунатическими глазами, вскоре выбросившейся из окна[971]. Ее гибель задела Эренбурга — сюжет оказался не мимолетным…. Но в большинстве случаев, расставаясь со своими спутницами, он сохранял с ними самые сердечные и нежные отношения. Наверное, какое-то предчувствие возможной разлуки есть в майском письме Лизы к матери, если только это не камуфляж: «Последние дни я занималась неважно и в Университет не ходила. Я опять немножко разнервничалась и чувствую себя нехорошо… Хозяйка (которой мать поручила приглядывать за Лизой — Б.Ф.) очень хорошо ко мне относится и очень заботится о моей нравственности, со знакомыми встречаюсь редко и от себя их отвадила… Я все больше мечтаю о России, потому что чувствую, что здесь могу черт знает до чего дойти. Если только возможно, я хочу вернуться в Россию или уехать куда-нибудь в другие места… А здесь мне очень нехорошо…»
Что до Ильи, то именно встреча с Лизой пробудила в нем ставший, скорее всего, главным в его жизни интерес к поэзии. И вскоре стихи переросли, заслонили поначалу страстное чувство; во всяком случае, вытеснили его, когда Илья почувствовал, что поэтическая стезя удается, открывая перед ним совершенно новые перспективы (но мы забежали вперед).
Летом 1909 года Эренбург и Полонская отправились из Парижа в Германию, чтобы повидать своих близких, приехавших туда на лечение: Полонская в Кенигсберг, а Эренбург — в Бад-Киссинген. В середине июля он, повидав мать и сестер в Бад-Киссингене, выехал в Кенигсберг, где Лиза представила его своей матери, получив обещание, что Ш. И. обязательно напишет, как понравился ей Илья и что она о нем думает.
Из Кенигсберга Лиза и Илья отправились в путешествие по Германии, Швейцарии и Италии. Подробное письмо, написанное матери (оно отправлено 15 августа 1909 года), — отчет и о путешествии, и о многом другом; долгое «я» в конце письма вдруг сменяется на «мы», а затем уже следуют напрямую слова «об Илье»: «Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе о своем путешествии. Была я, как ты знаешь, в Дрездене, видела галерею, была на фотографической выставке… Дрезден — самый симпатичный немецкий город… В Мюнхене я была в Пивной при пивоваренном заводе, там сидят все на бочках и на полу (возможно, эта экскурсия инициирована Эренбургом: его детство прошло на территории Хамовнического медопивоваренного завода, директором которого работал отец писателя — Б.Ф). Потом я поехала в Швейцарию, остановилась в Цюрихе, смотрела озеро и взбиралась на гору. Потом Готтардский туннель, у входа в который мы провели день, лазили по горам, взбирались на Чертов мост… Милан — собор, галерея, кладбище и синее глубокое небо как на картинах Рафаэля… Видишь, я сколько тебе рассказала. А ты мне пишешь мало и не то, что надо. Ведь ты мне обещала написать об Илье — а теперь ни слова. Мне очень интересно, что ты о нем скажешь. Мы расстались в Милане[972] и разъехались в разные стороны — он к родным в Киссинген, я — в Париж. Ну, теперь твоя душенька довольна?». Это письмо начиналось с того, что, вернувшись в Париж, Лиза хочет снять комнату у знакомых в Булонском лесу, чтобы готовиться к оставшемуся экзамену — видимо, одиночество на рю Ги де ла Бросс оказалось невыносимым…
Прощаясь с Ильей в Милане, Лиза понимала, что расстаются они надолго — его дальнейший путь лежал в Вену (неудовлетворенный парижским бездействием и склочной обстановкой эмигрантской среды, Эренбург, получив приглашение работать в «Правду», которую редактировал Л. Д. Троцкий, принял его с явной охотой; Лизу это радовать не могло).
В осеннем письме к матери (октябрь-ноябрь 1909 года) она отвечает на прямой вопрос: «Ты меня спрашиваешь об Илье?[973] Я не писала тебе просто потому, что мне как-то не приходило в голову написать об этом. Кроме того, ты ведь знаешь, что я никогда не люблю говорить о своей личной жизни. Илья все время в Вене, работает там в газете. После моих экзаменов он был здесь недолго и снова уехал. Его процесс разбирался в Москве, но его выделили, не помню почему. Или за неявкой, или родители представили свидетельство о болезни. Так как он привлекался по делу о московской в<оенной> организации>, ему бы дали 4 года каторги. Поэтому он предпочитает оставаться за границей. Он стал писать стихи и у него находят крупное дарование. Вот все, что я могу тебе сказать об Илье». Здесь, скорей всего, речь идет о парижских откликах на стихи Эренбурга — в России они появились чуть позже, но кто именно находил у Эренбурга «крупное дарование», остается загадкой.