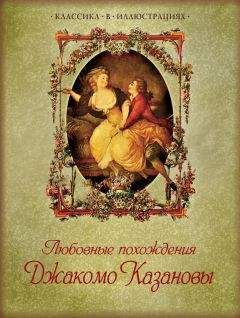Она сидела, ноги под одеялом, в какой-то белой полураспахнутой рубашке, и сама невероятно белая, по крайней мере, и шея, и плечо, с которого рубашка чуть сползла, были белей бумаги. Я спросил осторожно об этой бледности, может, она себя плохо чувствует? Но она беззвучно засмеялась и сказала, что всегда такая…
Я придвинулся с креслом ближе. Она улыбнулась… Я молча протянул руки. Она молча наклонилась ко мне.
Дальше всё было тоже молча.
Она была вся очень тихая, очень белая. Но это была вовсе не анемичность, я бы сказал про неё одно: белопенная. Пенились не только волосы, распущенные, как всегда, пенной казалась она вся. Беззвучная, легчайшая, белая пена…
Это была какая-то потусторонняя сексуальность, тихая, белая и всё же ненасытная. Но — ни одного движения, ни разу даже не шелохнулась, только каждый раз — длинный, немыслимо длинный выдох.
Потом, до самого моего отъезда, наш «молчаливый роман» то затихал, то вдруг снова оживлялся непонятно как, когда и отчего…
Я изредка заезжал к ней, когда её сестёр не было дома, да и она иногда, правда, не чаще раза в месяц, приезжала ко мне, но только в солнечную погоду. Словно её пенность боялась питерских дождей и серого неба.
Так оно и было: с конца октября и по крайней мере до Нового года она исчезала из города: не выносила темноты и промозглости питерской осени и зимы. Куда? А «на юг», подробнее не знал, наверное, никто в Питере.
В один из её приездов ко мне, несмотря на её крайнюю немногословность, мы разговорились как-то более откровенно, чем обычно, и она спокойно сказала мне, что ей всё равно, сколько у меня баб, и что она «ни одного из своих любовников» не ревнует: «Лишь бы хотел меня, а прочее неинтересно», — прошуршала она.
И вот в конце 74 года в Париже Ефим Григорьевич передал мне её архив. Сказал, что такова была ее воля. Как и когда она сказала об этом Эткинду, я, разумеется, не спрашивал, а он не говорил. В архиве не было ни одного перевода. Только стихи.
Короткие тихие миниатюры, тихие и белопенные, как сама Вера…
Но почему без переводов? Ефим Григорьевич предположил, что просто все её переводы давно опубликованы. Но я не уверен и в этом.
Переводила Вера со всех скандинавских языков и почти со всех славянских. А еще с немецкого, который знала, как второй родной. К подстрочникам она относилась ещё непримиримей меня: «Переводить, не слыша звучания, да это же исполнять музыку композитора, которого никогда не слышала, нот которого не видишь, а так, потому что тебе о нём рассказали».
А стихи… Вот одно из них, из всего двухсот, примерно, написанных за тридцать лет:
Ветки сами блестят. Без солнца. Солнце боится до них дотронуться. Там на дереве выросли коготочкиБелые. Разве поверишь, что это — почки?
В чём она, трагичность этой тишайшей, как и её автор, миниатюры?
Кто-то недавно сравнил миниатюры Веры со стихами Г. Айги, но я не согласен: снежно-рябиновые строчки Айги — все — писались как бы специально «под перевод», для западных поэтов-переводчиков, чтоб им проще было… Так мне кажется…
А тут тихий белый выплеск, всплеск. Так её и не напечатали никогда…
Я хотел издать в Париже небольшую книжку её стихов, художник Генрих Элинсон, в свой очередной приезд из Калифорнии, сделал серию полуабстрактных иллюстраций, но тут моё крохотное издательство «Ритм» закончило своё краткое существование. А больше издавать было негде…
26. ДРУЗЬЯ, СТИХИ И… (1976–1980)
Валя Павлова. Синявские и Максимов… А. А. Галич. «Некто, именуемый Аллой». Стихи Юрия Одарченко. Поездка в Америку. Эдик Штейн. Алексис Раннит.
Весной семьдесят седьмого года у художницы Валентины Шапиро я познакомился с другой Валей — Павловой. Мы с ней мгновенно подружились. Валя была из детей первой эмиграции, родилась в Париже перед войной. Отец умер.
После войны Валина мать вышла замуж вторично — за человека, жившего в городке Труа на востоке Франции и руководившего во время войны местным сопротивлением, по происхождению гагауза из Молдавии. Отчим Вали был человек интереснейший. Великолепный рассказчик, он, к сожалению, был уже стар и слеп, когда Валя привезла меня с ним знакомиться.
Старики жили в небольшом домике, который Валя купила им недалеко от «французской Венеции», города Монтаржи в ста с лишним километрах от Парижа. Было у них две собаки и четыре кошки. Одна из них в первый мой приезд как раз принесла двух котят, один был полосатый. А второго дымчатого и пушистого котенка нарекли Гри-ша.(По французски это звучит как «серый кот»). Эта вот Гри-ша побила все рекорды продолжительности кошачьей жизни: дожила до двадцати двух лет и умерла несколько лет назад.
Мы с Валей стали много, используя практически все свободное время, путешествовать по Франции, то на поезде, то на моей машине, а то и просто пешком. Вот когда я действительно узнал эту, наверное, самую разнообразную страну Европы…
Само собой разумеется, что мы сошлись на третий день нашего знакомства. И я лет пять, по сути дела, жил «равновесно» на два дома.
Совсем откочевать к Вале я не мог: она, добрейший и умный человек, была тогда настоящей зависимой алкоголичкой, и вечером, когда напивалась, часто становилась трудно выносимой.
Лет через десять наши отношения постепенно перешли в просто дружеские…
По Валиной просьбе Валя Шапиро написала для неё мой портрет, причем в шутку и к моему большому удовольствию, сделала меня неуловимо похожим на Вольтера…
Портрет работы В Шапиро
Валя — человек удивительный, в ней превосходно сочетается отличное владение русским языком с принадлежностью к французской культуре. Есть среди эмигрантских детей люди почти начисто забывшие о своем русском происхождении, знаю я пару очень уродливых случаев, когда человек родился во Франции, но не знает ее и живет бессмысленными грезами о несуществующей России…
А вот таких, как Валя, француженок русского происхождения я больше не знаю. Она открыла мне Францию — и страну, и людей. Ну а она, общаясь со мной, стала читать больше русских книг. При всей ее прекрасной образованности русскую культуру Валя долго вообще знала только пятнами. Так что мы всегда общались «на границе двух сред обитания, встречаясь в полосе прибоя», как я это когда-то сформулировал.