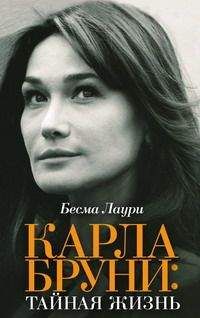«Папа стоял посреди комнаты и с высоты своего роста с некоторым недоумением слушал Мандельштама. А он, остановившись на ходу и жестикулируя так, как будто он поднимал обеими руками тяжесть с пола, горячо убеждал в чем-то отца:
…он не способен сам ничего придумать…
…воплощение нетворческого начала…
…тип паразита…
…десятник, который заставлял в Египте работать евреев…
Надо ли объяснять, что Мандельштам говорил о Сталине?» [335]
С другой стороны, совершенно очевидно, что в Сталине поэт видел, парадоксальным образом, и нечто очень близкое самому себе, и – в то же время – не свое, но притягательное. Инородец-маргинал Иосиф Сталин, тезка поэта, вошел в русскую жизнь, нашел себя в ней, подобно тому, как инородец-маргинал Мандельштам вошел в русскую поэзию. «Он родился в горах и горечь знал тюрьмы. / Хочу его назвать – не Сталин, – Джугашвили!» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…», 1937). Поэт заявляет о желании убрать псевдоним и именовать героя стихотворения по его подлинной фамилии, столь же явно нерусской, как и фамилия Мандельштам. Добавим, что ко времени написания этих строк поэт тоже хорошо знал горечь тюрьмы: и белогвардейской, в Крыму, и меньшевистско-грузинской, и сталинской. Еще один аспект близости: Сталин предан своему делу, своей политической идее, живет ради нее, в нем есть страсть, самоотдача, нетерпимость – что должно быть и в истинной филологии. В той же «Четвертой прозе», где с ненавистью говорится о рептильных лакействующих писателях, которые «запроданы рябому черту на три поколения вперед», в обоих известных списках сказано (по восстановленной А.А. Морозовым версии): «Кто же, братишки, по-вашему, больший филолог: Сталин, который проводит генеральную линию, большевики, которые друг друга мучают из-за каждой буквочки, заставляют отрекаться до десятых петухов [336] , – или Митька Благой с веревкой [337] ? По-моему – Сталин. По-моему – Ленин. Я люблю их язык. Он мой язык» [338] .
Далее: Сталин воплощает в себе мощь, сильное отцовское начало, в котором, видимо, Мандельштам испытывал потребность (отец поэта, насколько известно, на эту роль не подходил). Эмма Герштейн рассказывает в своих мемуарах о разговоре с Мандельштамом в 1928 году в санатории «Узкое» под Москвой (см. «Список адресов»). Поэт читал в это время книгу французского писателя Марселя Пруста. «Мы опять пошли гулять, на этот раз вдвоем с Осипом Эмильевичем. Он продолжал думать о Прусте: “пафос памяти”, – так он выразился. В нем поднималась ответная волна воспоминаний о собственном детстве. Это были откровенные и тяжелые признания с жалобами на неумелое воспитание мальчика: его слишком долго брали с собой в женскую купальню, и он волновался, когда его секла гувернантка» [339] . Таким образом, в отношении Мандельштама к Сталину мы находим проявление классического сочетания ненависти и одновременного тяготения к грозному отцу.
Автор книги предвидит упрек в том, что он повторяет фрейдистскую догму. Не ему решать, в чем и насколько прав или неправ З. Фрейд. Но разве для того, чтобы заметить, что отношение к авторитарному правителю напоминает преклонение и соединенный с ним страх по отношению к доминирующему отцу, нужно обязательно быть фрейдистом?
Как уже не раз говорилось, Мандельштаму было свойственно представление о народной правде, которую он должен понять и принять. Нельзя сетовать на народный выбор, обижаться на жизнь. В письме М. Шагинян от 5 апреля 1933 года Мандельштам говорит о себе: «Кто я? Мнимый враг действительности, мнимый отщепенец. Можно дуть на молоко, но дуть на бытие немножко смешновато». Б.С. Кузин отмечал: «Особенно, по-видимому, для него был силен соблазн уверовать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, которым она служила ширмой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрасное социалистическое будущее.
Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте в этих заскоках у него не было. Всякий, кто близко и дружески с ним соприкасался, знает, до чего он был бескомпромиссен во всем, что относилось к искусству или морали. Я не сомневаюсь, что если бы я резко разошелся с ним в этих областях, то наша дружба стала бы невозможной. Но когда он начинал свое очередное правоверное чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним: “Ну, Борис Сергеевич, ну ведь правда же это хорошо”. А через день-два: “Неужели я это говорил? Чушь! Бред собачий!”» [340]
Желанием заставить себя поверить в «великие идеи» определяется формирующийся в 1930-е годы в поэзии Мандельштама новый образ Москвы – Москвы сталинской.
Вообще можно, думается, выделить следующие основные этапы формирования образа Москвы в стихах и прозе Мандельштама (обобщим вышесказанное и кое-что добавим к нему).
Первый . Стихи 1916 года с их приятием-отталкиванием Москвы, осознанием ее чуждости автору и его лирическому герою, глубинным ощущением исходящей от этого города угрозы – и в то же время стремлением стать «причастным» Москве, олицетворяющей Россию и ее историческую судьбу; при этом пророчески предвидится собственная жертвенная роль в жизни России и ее старой столицы.
В кремлевских соборах, построенных итальянскими зодчими XV века, поэт опознает влияние средиземноморской культуры, которую он всегда воспринимал как неиссякаемый животворящий источник всей христианской цивилизации; соборы «с их итальянскою и русскою душой» свидетельствуют о включенности России в общеевропейский культурный контекст.
Любимая женщина олицетворяет в первых московских стихах православную Москву, притягательную и угрожающую. Тревожный мотив смуты, разбоя, мятежа восходит к пушкинскому «Борису Годунову»; роман с Цветаевой, чье имя и характер очевидно провоцировали соответствующие «борисогодуновские» ассоциации, как бы назначал поэту в этой паре трагическую роль Димитрия – то ли невинно убиенного царевича, то ли плененного претендента на престол – в любом случае, роль жертвы. Так возникает в стихах Мандельштама тема роковой связи его лирического героя и Москвы.
Реконструкция Москвы
Второй . В стихах, созданных в 1918 году, допетровская столица, вновь получившая прежний статус, резко характеризуется как «непотребная». Всегда готовая выплеснуться смута, об угрозе которой напоминали стихи 1916 года, разлилась по стране, смутьяны пришли к власти («страшный вид разбойного Кремля» – этот емкий «суммирующий» образ откликнется позднее в антисталинском стихотворении, в одном из вариантов которого говорится, что у власти душегуб, как нередко и называют разбойников: «Там припомнят кремлевского горца, / Душегубца и мужикоборца…»).
«Азиатская» Москва с ее необозримыми базарами «качнулась в путь» «мильонами скрипучих арб»; начинает звучать у Мандельштама тема одичания: хранилища Святого духа, «церквей благоуханных соты», – уже «как дикий мед, заброшенный в леса». В московском небе парят угрожающие птичьи стаи, увиденные впервые еще в 1916-м. Театральное действо воспринимается как похороны культуры, ночная Москва видится новым Геркуланумом. Но не возникает ли на развалинах старой жизни, утратившей созидательную силу, подлинно новый мир? И именно Москва стала тем центром, который определяет происходящее в стране неслыханное обновление. «Ну что ж, попробуем…» – говорит Мандельштам, и есть логика в том, что «Сумерки свободы» подписаны «Май 1918, Москва».