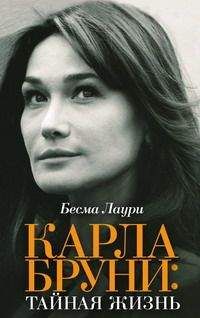Однако вся эта живописность, строительство и динамизм советской Москвы не скрывали для Осипа Мандельштама ее внутренней ущербности, не скрывали идейного примитива и антиевропейского, антигуманистического духа, господствовавшего в столице новой России. «Буддийская» Москва внутренне пуста, в ней нет свободы, и чем дальше, тем больше жизнью правит страх. Недоброжелательная косность обывательской московской жизни устояла и оказалась сильнее революционного порыва. Неслучайно в своем «Путешествии в Армению» Мандельштам именно в главе с выразительным и обязывающим названием «Москва» отмечает «арбузную пустоту России» и рисует картину «убийства» старой липы – дерева, которое «презирало своих оскорбителей и щучьи зубы пилы» (это все тот же «щучий суд», который мы встречаем в стихотворении «1 января 1924»). В Москве «животный страх стучит на машинках» («Четвертая проза»); в Кремле правит «кремлевский горец», окруженный полулюдьми-полузверями; отнимается главное, что отличает человека от тех, «кто свистит, кто мяучит, кто хнычет», – дар речи («наши речи за десять шагов не слышны»). Чувство угрозы, исходящей от Москвы, которое поэт выразил в раннем стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой…» еще в 1916 году, возвращается во всей силе – «курва-Москва» не помилует, грозит «из угла» («Нет, не спрятаться мне от великой муры…»).
Если раньше Мандельштам сказал «некуда бежать» («от века-властелина» – «1 января 1924»), то теперь он повторяет эти слова, подчеркивая значение окончательности: «Некуда больше бежать» («Квартира тиха, как бумага…», 1933). Ясно предощущается то, что обозначено строкой из стихов памяти Андрея Белого (1934):
Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь.
Пятый. Теперь, в эти «послеарестные» годы, в стихах Мандельштама складывается новый образ Москвы – советской державной Москвы, столицы сталинского государства, которое противостоит крепнущему в Европе фашизму. Вина перед народом, в массе своей, как представлялось, принимавшим строительство новой сильной страны, вина перед Сталиным, вождем народа, который ответил на прямое оскорбление неожиданно мягко, определенно выражена в стихах этой поры.
В воронежских стихах заявляется стремление жить, «дыша и большевея», войти в советский мир, «как в колхоз идет единоличник»; впереди – большая война, в Германии «лиловым гребнем Лорелеи / Садовник и палач наполнил свой досуг» («Стансы», 1935) и «над Римом диктатора-выродка / Подбородок тяжелый висит» («Рим», 1937) – надо быть среди тех, кто крепит единство и мощь страны.
И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе… —
«Мне кажется, мы говорить должны…», 1935
чем остаться в стороне, предать народ, нарушить «присягу чудную четвертому сословью», чего Мандельштам опасался еще в стихах 1924 года («1 января 1924»).
Возвращается, таким образом, сознание долга перед строителями нового мира, характерное для поэта уже в первой половине 1920-х годов, осложненное и отягощенное теперь чувством вины.
Попытка безоговорочного принятия советской действительности была, несомненно, очень мучительна, поскольку требовала внутреннего оправдания многочисленных несправедливостей и жестокостей, предполагала капитуляцию, отказ от самих основ миросозерцания.
Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать,
Я рос больным и стал тщедушным.
Так пробуй выдуманный метод
Напропалую, напрямик:
Я – беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.
Апрель – май 1935(?)
Как показал О.А. Лекманов, стихи представляют собой отклик на сталинский тост, провозглашенный «на встрече участников первомайского парада с членами ЦК и правительством Советского Союза в зале Большого дворца в Кремле 2 мая 1935 года». «На встрече в Кремле вождь народов поднял бокал “за всех большевиков: партийных и непартийных. Да. И непартийных. Партийных меньшинство. Непартийных большинство. Но разве среди непартийных нет настоящих большевиков? Большевик – это тот, кто предан до конца делу пролетарской революции. Таких много среди непартийных”» [341] . Поражает откровенность – Мандельштам, вероятно, просто не умел писать «прилично» и «то, что надо», – с которой в этом стихотворении переход на правоверную большевистскую позицию связывается с отказом от имени и чести и растворением в общей массе, где уравнены все – и друзья, и недруги. Трудно вообразить что-либо более компрометирующее идею «перековки», как тогда принято было говорить, чем такое заявление – независимо от того, каковы были намерения автора стихотворения. Упоминание «чести» возвращает к стихам 1931 года «За гремучую доблесть грядущих веков…»: «Я лишился и чаши на пире отцов, / И веселья, и чести своей…» Необходимо принять правоту власти – пусть с этим связаны потеря имени, чести, веселья.
Уличное украшение к 1 Мая 1933
Страна и Москва охвачены трудовым энтузиазмом, идет ударное строительство, появляются новые фабрики и заводы; в Москве строится метро. В своей написанной в ссылке рецензии на сборник стихов литкружковцев Метростроя («Стихи о метро», 1935) Мандельштам доброжелательно оценивает представленные в сборнике стихотворения строителей московской подземки. О стихотворении Г. Кострова, которое Мандельштам называет «лирической вершиной» книжки, Мандельштам пишет: «Много в русской поэзии прекрасных заздравных стихов, начиная с пушкинского “да здравствуют музы, да здравствует разум” и хмельных языковских здравиц, но этот изумительный трезвый тост, этот дифирамб живым и здравствующим товарищам, этот бокал с черной землей из шахты Метростроя, поднятый над советской Москвой, радуют даже самый взыскательный слух». О строящемся метро сосланный и тоскующий по Москве поэт упоминает и в стихах:
Ну как метро?.. Молчи, в себе таи…
Не спрашивай, как набухают почки…
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки…
«Наушнички, наушники мои…», 1935
Москва в стихах Мандельштама этой поры предстает столицей государства, ставшего надеждой и оплотом трудящихся и эксплуатируемых всего мира.
Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный,
На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно-раздольный,
Откидываясь вниз – до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.
Май 1935
Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры —
Их быстроходная взволнованная бронь