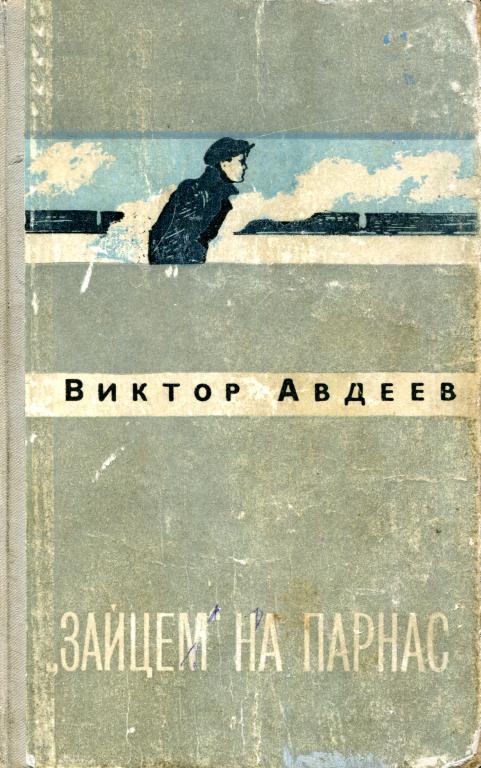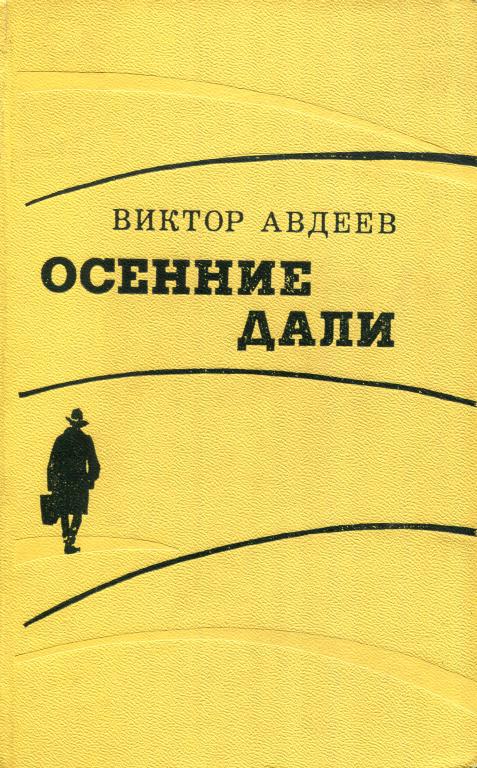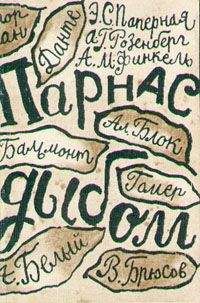гористой, скользкой тропинке. У калитки дачи я простился с подругами. Наденька крепко и сердечно пожала мне руку.
— Хороший вы человек, Антон.
Так мне всегда говорили девушки, которым я не нравился.
Хвалила меня и давнишняя институтская невеста, однако все-таки бросила и любовь свою подарила моему другу, которого никто не превозносил за характер.
VI
Работы в учреждении не было почти никакой, дни проходили в разговорах. Только один я не мог усидеть за своим столом. Куда девались моя замкнутость, молчаливость, неловкость. Я тщательно подшивал никому не нужные папки с делами, бегал сотрудницам в буфет за голым чаем и всячески старался поддержать в них бодрость духа. Машинистка с удивлением сказала мне: «Вы точно переродились, Антон Матвеич. Этакий… огонек в глазах, всегда выбриты, новый галстук купили: прямо интересный мужчина!»
В очередное воскресенье мы условились с Наденькой пойти в кино. Неожиданно положение на фронте резко и тревожно изменилось: немцы взяли Вязьму и двинулись на Можайск; под ударом оказалась Москва. Наше учреждение получило приказ немедленно эвакуироваться в Орск на Урале. Я снова отправился в райвоенкомат и наконец добился того, о чем хлопотал все эти месяцы.
В тот же день я позвонил Наденьке из автомата с Киевского вокзала и спросил, не может ли она приехать к Зоопарку: нам надо срочно увидеться.
Встретил я ее на трамвайной остановке. Наденька была не одна, за нею с моторного вагона сошла высокая тонкая Ксения в зеленой шерстяной косынке, клетчатом пальто. Я был в очках и отлично их видел: подруги оживленно разговаривали.
— Что, Антон, за срочность? — весело сказала мне Наденька. — Ничего по телефону не объяснили. Берите нас под руки, идемте отсюда, а то все смотрят. И на следующий раз запомните, что место для свидания предоставляется выбирать девушке.
Мы пошли по сырому тротуару Большой Грузинской, вдоль резной чугунной решетки Зоопарка.
— Я через два часа покидаю Москву. Пришел проститься.
Я почувствовал, как дрогнула рука Наденьки; она круто остановилась, спросила растерянно, с испугом:
— Уже? С учреждением в этот свой Орск?
— Нет.
— А куда же?
Эту минуту я навсегда запомнил. Наденька быстро вскинула на меня светлые пушистые ресницы. Мы все трое стояли около высокой чугунной решетки Зоопарка. За решеткой виднелась голая зеленая скамейка с прилипшими багровыми листьями клена, тусклый, оловянный пруд, покрытый мелкой рябью, на том берегу пустые вольеры. Темные дождевые облака низко плыли над мокрыми крышами, над высокой стеной дома, грубо, пестро размалеванной в целях маскировки. Дул холодный сырой ветер.
— Меня приняли в ополчение.
— Но вы же близорукий! — воскликнула Ксения. — А вдруг потеряете очки?
Не отрывая взгляда от Наденьки, я вынул из кармана два запасных футляра. Очевидно, выражение лица у меня было глупое, как у всякого человека, который наконец добился своего. Наденька побледнела так, что на лбу, на верхней части щек стали заметны веснушки, растерянно переглянулась с Ксенией. Вдруг она закинула мне руки за шею и крепко поцеловала в губы. Я никак не ожидал этого и растерялся.
— Надя, Надюша, Наденька, неужели вы… — бормотал я. — А я уже перестал верить. И вы… ты будешь мне писать на фронт?
Она отвернулась и пошла по Большим Грузинам вдоль зеленого забора Зоопарка, служившего продолжением чугунной решетки. Губы ее сразу распухли, по лицу текли слезы, она комкала в руке батистовый расшитый платочек, но не вытирала их и старалась улыбнуться, чтобы не расплакаться совсем.
— Вы скоро эвакуируетесь? — спросил я первое, что пришло на язык. От волнения, от нахлынувшего счастья я плохо соображал.
— Папа отказался ехать с художниками в Алма-Ату, — ответила она не сразу. — Мы остаемся.
— Как остаетесь? — испугался теперь я. — Что же, Наденька, вы будете здесь делать? Москва в опасности.
— Я же ведь работаю, вы забыли? А если закроют фабрику мультипликационных фильмов, перейду куда-нибудь на оборонный завод. Да меня, наверно, скоро пошлют рыть противотанковые рвы. — На ресницах Наденьки еще блестели слезы, но она смотрела уже с важностью. — Ведь я москвичка.
Мы дошли до Георгиевского сквера с мрачной кирпичной церковью без креста. Вязы в сквере стояли полуголые, почерневшие; истоптанные газоны были засорены жухлым, грязно-бронзовым листом. Кусты за чугунной оградой давно не подстригали, и серо-голубые прутья торчали во все стороны.
— А вы, Ксения? — спросил я молчавшую девушку.
Она неопределенно пожала плечами.
— Институт наш, по слухам, эвакуируется в Казань на Волгу. Но, может, и я еще останусь. У нас, кажется, хотят сделать набор в части ПВО. Защищать Москву. Меня, конечно, возьмут.
— Как, Наденька, твой глаз? — спросил я опять не к месту. — Ячмень больше не беспокоит?
Она кивнула.
В этом скверике мы и расстались: мне уже было пора в ополченскую роту. Наденька вдруг сделалась задумчива, молчалива. Мы наспех поцеловались, и я вскочил в отходящий трамвай. Такой я и запомнил Наденьку Ольшанову навсегда: в пальто, в берете, с милым, застенчиво склоненным лицом, с заплаканными, припухшими и сияющими глазами.
VII
Вечером наша рота шагала по Волоколамскому шоссе. Я был в длинной, не по росту шинели, плечо мне резала винтовка, по боку стукал котелок. Справа расстилались пустые огороды с посохшей ботвой невыкопанной картошки; слева из-за реденького перелеска сиротливо выглядывали брошенные дачи. За моей спиной осталась далекая Москва, ее переулки, бульвары, люди и с ними Наденька: дорогая, любимая, близкая. Я чувствовал себя сильным, я не мог отступать, я должен был защитить всех.
I
Со шкафа слетела рыжеглазая голубка и заходила по закапанному чернилами подоконнику возле аквариума с золотыми рыбками. За ней сорвался «ленточный» мохноногий голубь, заворковал, раздувая горло. Шум их крыльев и разбудил Лаврика.
На ободранном диване, неудобно свесив голову, спал старший брат Егорка, ученик четвертого класса и пионер. У его шеи свернулся ежик и колол иглами. Ночью, в потемках, ежик всегда бегал по комнате, сопел: охотился за мышами. К утру он начинал дремать, зябнуть и по свесившемуся одеялу забирался к кому-нибудь в постель.
Лаврик слез с кровати, выглянул на улицу. Над пожелтевшими верхушками сада подымалось синее-синее небо, а березка стояла тоненькая, кудрявая, в белой рубашонке, словно и она только сейчас проснулась и еще не успела одеться.
В кухне ярко пылала печь, «баба Петровка» пекла оладьи. Мама укладывала в портфель тетрадки. От ее густых русых волос, от смуглых рук пахло духами, на ногах поскрипывали туфли с высокими каблуками: казалось, что мама подросла.
— Ой, кто это к нам пришел? — сладко запела старуха.
— Да это я, — сказал Лаврик.