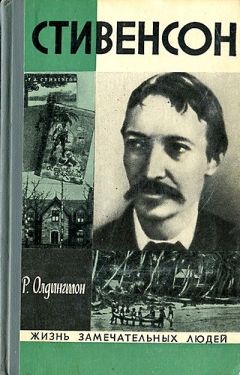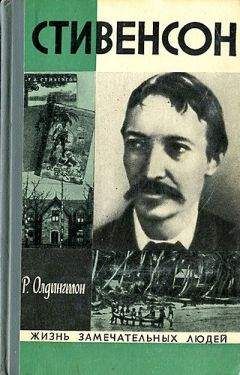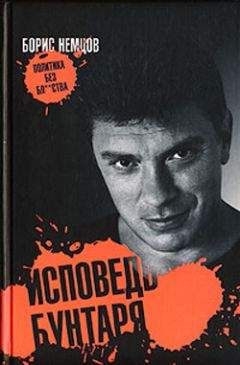Стивенсон наконец нашел.
«Лорд верховный судья был в тех местах человек чужой, зато супругу его знали там с детства, как и всю ее родню» — зачин знаковый, все та же книга, соединяющая «общественную и частную историю».
Героем своим Стивенсон взял лицо реальное. Это был Браксфилд, лорд Браксфилд, занимавший пост верховного судьи в Шотландии в XVIII столетии, описанный мемуаристами, занесенный в «Словарь национальных биографий» и даже, кажется, затронутый писателями до Стивенсона. Бывают такие фигуры, готовые персонажи в самой жизни.
Выдвинулся Браксфилд (настоящее имя его было Маккуин) все в том же роковом 45-м году, но только действовал он в пользу англичан, что, однако, не помешало ему оставаться истым шотландцем. Тогда вообще ситуация между Англией и Шотландией сложилась катастрофическая. По выражению историка, тогда был изувечен национальный характер шотландцев. Шотландия под знаком общей с Англией веры и государственности вышла из положения провинциального, но в то же самое время перестала быть Шотландией. Шотландцы стали говорить по-английски, писать по-английски, думать На английский манер, а свое, шотландское, сделалось экзотикой. Даже у Бернса не шотландский язык, а стилизация.
Борьбу шотландцев с англичанами рассматривают еще и как столкновение «варварства» с «цивилизацией». Не торопитесь, однако, следом за буржуазными прогрессистами ставить плюс там, где это «цивилизация», и минусом помечать «варварство». Ведь с той и с другой стороны были люди, народы, традиции, своя история, и каждая страна отстаивала вековой уклад. За чертой «варварства» был целый мир, тот, что со временем живописал Вальтер Скотт. Впрочем, единства не было ни с одной стороны, и, чтобы представить себе разброд и панику у англичан, припомните несколько страниц из «Тома Джонса» или хотя бы кадры из фильма по этому роману, когда мародерствуют бравые молодцы. Это и есть «цивилизация».
Понятно, почему к таким временам и людям тех времен вновь и вновь обращается литература и писатели всматриваются как можно пристальнее в происходившее тогда.
Отчаянную схватку между «цивилизацией» и «варварством» Стивенсон перенес в натуру одного человека, Браксфилда, у которого переменил он лишь несколько внешних черт биографии и дал ему другое имя. Назвал он его Уиром Гермистоном, так называется и вся книга, хотя был еще вариант — «Верховный судья».
Олдингтон судит об этой книге высоко, но мельком. Поэтому остановимся на ней подробнее. К тому же она и читателям известна мало — кому интересен оборванный роман? Но знаменательно: другие вещи Стивенсона, оставшиеся незаконченными, брались продолжать опытные литераторы, только не «Уира Гермистона»! То было творение задушевное, род творческого завещания, последняя дань родине, которую Стивенсону — он это знал, работая над «Гермистоном», — не суждено было больше увидеть. И эта родина, оставшаяся за океаном для него навсегда, виделась ему все яснее, тоска только обостряла зрение.
Сам процесс работы очень вдохновлял Стивенсона, несмотря на парализованную руку и вообще тяжелое состояние здоровья. Он вел переписку со многими соотечественниками, выясняя до мелочей обстановку, выписывал исторические материалы, редкие книги, и плыли старинные фолианты из Национальной эдинбургской библиотеки через моря к Стивенсону. Плыли письма с ответами на вопросы Стивенсона, которыми он особенно донимал друзей-юристов. Конечно, Стивенсон по образованию и сам был юристом, но уж ему хотелось скрупулезной точности.
Господин верховный судья, лорд Гермистон, был, безусловно, незауряден и умен, но, столь же очевидно, была ему свойственна грубость, и не «грубая речь», а самая настоящая неотесанность души. Может быть, поэтому в жестокой усобице, руководясь силой рассудка, он и выстоял. Человек он был ученый, а его все равно считали «темным», по нему «цивилизация» только скользнула, не наведя хотя бы поверхностного лоска. Чутье, историческое чутье, вывело его на дорогу, занял он виднейший пост, стал на стороне порядка, конечно, более развитого, чем полудикая клановая жизнь. Но и сами идеи этого порядка тотчас приняли у него форму косную, справедливость и закон означали для него прежде всего беспощадность.
Стивенсон сохранил за Гермистоном прозвище, полученное от народа Браксфилдом, — «судья-вешатель». «Давайте преступников, — говаривал Браксфилд, — а законы, чтобы отправить их на виселицу, найдутся». Рассказывают, что и Христа считал он просто преступником. В таком духе думает и Гермистон, по крайней мере, так он рассуждает. А что касается скрытых мыслей его и вообще, что он сам за человек, на это не брался ответить никто.
«Керсти! — вдруг однажды позвала экономку его жена. — Мистер Уир не имеет особенной души, но он был мне хорошим мужем». Служанка поняла, конечно, сразу, что дело плохо. И действительно, госпожи Гермистон не стало через несколько мгновений, иначе она б не пошла бы и на такую минутную откровенность.
«Ночь опускалась на землю, когда милорд возвращался домой. За спиной у него полыхал закат, клубились облака, и догорало солнце, а впереди у дороги поджидала его Керсти, экономка. Лицо ее распухло от слез, и она обратилась к нему голосом громким и неестественным, заводя старинное варварское причитание, вроде тех, что еще можно услышать на вересковых холмах Шотландии.
— Господь да сжалится над тобой, Гермистон! — взывала она. — Господь да укрепит тебя! Горе мне, что я должна приносить такие вести!
Он натянул поводья и, нагнувшись в седле, мрачно заглянул ей в лицо.
— Французы высадились? — был его первый вопрос.
— Ах ты! — отозвалась она. — Одно у тебя на уме. Бог да укрепит тебя для горькой вести, бог да утешит тебя в горе!
— Кто-нибудь помер? — спросил его милость. — Арчи? (сын).
— Нет, слава тебе господи! — в испуге отвечала женщина уже более естественным тоном. — Нет, нет, от этого бог упас. Госпожа умерла, милорд…
И снова полился старинный шотландский плач, который с таким искусством и вдохновением от века исполняют простые землячки Керсти.
Лорд Гермистон застыл в седле, глядя на нее. Потом он овладел собой.
— Да, — проговорил он. — Это неожиданно. Но она с самого начала была женщиной хилой».[168]
Так опять остался закрыт, не разгадан человек этот, Гермистон, так и осталось неизвестным, есть ли у него все-таки душа. Впрочем, до нового испытания, посланного ему судьбой. Ведь у него, воспитанный чувствительной матерью, подрастал сын, и она, если о чем и позаботилась, так это о том, чтобы у Арчи была душа. И юноша захотел знать, почему такими хмурыми взглядами и даже проклятьями провожает народ экипаж его отца и что за человек там, «про себя», его отец? Еще мальчишкой он пытался спрашивать об этом у матери. «О, мое дитятко! — воскликнула она. — Никогда не говори таких вещей!» И тогда, повзрослев, решил он спросить самого Гермистона…