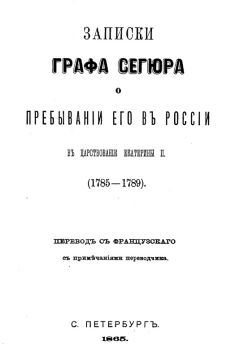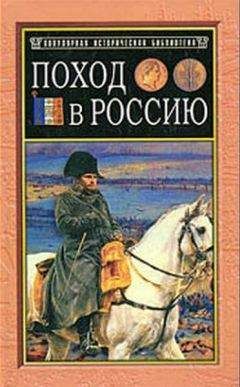Так как пылкий нрав султана Селима и честолюбие Густава III, а с другой стороны враждебные происки пруссаков и англичан удаляли всякую возможность скорого мира, то с обеих сторон спешили вооружаться. Принц Нассау-Зиген снаряжал свою флотилию в Кронштадте. Через три недели ему приказано было отправиться с тридцатью галерами, десятью шебеками, тремя судами с орудиями тяжелого калибра, с множеством канонерских лодок и 14 000 войска для высадки. Флотилия имела грозный вид, но не доставало хороших штурманов и искусных моряков, а войско состояло из новобранцев.
Извещая Монморена о невыгодном обороте наших сношений, я не мог удержаться от жалоб: «Как нехорошо, — писал я ему в начале июня, — что сближением нашим с императорскими дворами возбудили мы против себя турок, англичан и пруссаков, а теперь восстановляем императрицу и императора отказом согласиться на предлагаемый нам союз! Мы испытываем все неприятности нашего положения, не пользуясь его выгодами, которые в другое время уже не представятся нам. Екатерина еще занята этим союзом. Она так ревностно желает мира, что если Шуазель не будет действовать скоро и успешно, то она примет посредничество Англии и Пруссии, лишь бы окончить войну». Мои опасения были основательны. Я знал из тайного и верного источника, что Потемкин перед своим отъездом вот что говорил английскому министру: «Мы недолго думали о союзе с Франциею. Мы увлеклись уверениями Сегюра, по скоро увидели, что нельзя рассчитывать на французское правительство, между тем как по многим причинам сближение с Англиею нам кажется полезным. Торговля между нами сильная, купцов ваших в Петербурге целая колония. По всему видно, что нам надо подружиться: обстоятельства удобны, надобно спешить пользоваться ими». Однако некоторые случаи, происшедшие после этого разговора, встревожили Потемкина и возбудили государыню против явных и тайных врагов ее. Ей донесли, что один шведский моряк потихоньку забрался с брандером между русскими судами в копенгагенском рейде, был преследуем и пойман в доме шведского министра, который дал ему убежище. В то же время лондонский кабинет угрожал войною Дании, если она, согласно договору, будет оказывать содействие России в войне со Швециею. Между тем я сообщил государыне о благородном поступке нашего правительства: оно объявило лондонскому кабинету, что не потерпит нападения англичан на берега и флот Дании. Русский кабинет, довольный этим твердым и благородным шагом, прислал мне официальную ноту, сверх моего ожидания, весьма дружелюбную. Это был ответ на подробную депешу нашего кабинета относительно четвертного союза; императрица возобновляла уверения своего дружелюбного расположения к нам, но, вместо того, чтобы утвердить статью за статьею в проекте Монморена, писала, что до рассмотрения проекта желает посоветоваться с императором, также как мы хотели переговорить с испанским королем. Это было с обеих сторон честное отступление и вежливый способ отложить переговоры, не отказываясь от них.
В то время князь Потемкин, всегда старавшийся вредить нам, запретил нашим купеческим судам вход в русские порты Черного моря под тем предлогом, что должно скрыть от нас приготовления и вооружения, которые там производились. Я жаловался на это нарушение нашего торгового трактата и подал русскому правительству об этом подробную записку, которую нельзя было опровергнуть. Мне дали даже почувствовать, что разделяют мое мнение; но нельзя было противиться влиянию Потемкина, а он долго не соглашался на требуемые уступки. Когда я настаивал, императрица, отклоняя прямой ответ, жаловалась на поступки врагов и бездействие своих союзников.
В это время она принуждена была подчинить свою гордость благоразумию: она вывела войска свои из Польши, чтобы предупредить их столкновение с Пруссиею. Вместе с тем ей хотелось знать, может ли она рассчитывать на вас в том случае, если Фридрих-Вильгельм, не смотря на эту уступку, начнет войну, что, по словам ее, он обещал полякам и шведам. Понятно, что я в то время мог ограничиться неопределенным ответом. Это было в январе 1789 года: королевская власть во Франции была в опасности; финансы расстроились; дефицит увеличивался; вместо того, чтобы поправить положение дел, государственные чины разделились на партии. Прежде все сословия соединялись против произвола власти и закоренелых злоупотреблений; но теперь положение дел изменилось. Толковали не только об экономии и свободе, но и о равенстве. Нужно было решить, как подавать голоса — по сословиям или поголовно, или, лучше сказать, приходилось решить — останутся ли сословия отдельными, сохранятся или падут их преимущества, изменятся или рушатся наши старинные установления; наконец приступим ли мы к благоразумной реформе, или к бурной революции. Между тем возникла борьба между аристократиею и демократиею; первые вспышки ее взволновали умы, возбудили страсти; довольно сильная партия упрямо защищала старый порядок вещей и привилегии. Народное большинство желало и требовало преобразований и на стороне его было много дворян, одушевленных желанием свободы. После долгого покоя ни у кого не было опытности, которая бывает грустным и запоздалым плодом заблуждений, ошибок и несчастий. Правительство слабое и беспечное ничего не приготовило, ни на что не решилось; давно уже сила его истощилась; оно очаровывалось остатками ложного блеска; в короткое время оно двадцать раз изменяло систему и министров, и общество лишило его своего доверия. Трон походил на колесницу с надломившейся осью, уносимую конями, которые закусили удила. Последнюю неосторожность сделали, собрав выборных народа близ столицы, у источника неудержимых страстей огромного населения, так что королевская власть была предоставлена всем ужасам этой бури и всем переменам и превратностям судьбы. Неудивительно ли было, что в такую пору иностранные державы просили и ожидали помощи нашего оружия? Из этого видно, как несправедливо теперь обвинять французов в бедствиях, насилиях и пороках революции, которые подготовлялись временем, которые нельзя приписать только известным лицам, и которые наконец ни у нас, ни в других странах не были ни ожидаемы, ни предвидены. Дело в том, что с одного конца Европы до другого просвещение, философия и разум так далеко шагнули в последние два века, что идеи права, порядка и свободы распространились повсюду, начала нравственности и справедливости торжествовали над предрассудками, и умы были расположены к замене произвола и насилия законным порядком. Поэтому сначала приговоры наших парламентов, оппозиция их, проекты Тюрго, действия и сочинения Неккера, речи Мальзерба, слова, произносимые в академиях, возбудили всеобщее одобрение и удивление. Это сочувствие было естественно; это была жажда разумной свободы. Но когда стремление к равенству взяло верх, и частные интересы пришли в столкновение, то все переменилось, и везде высшие, владычествующие классы были или считали себя в неприязненном положении к народу. Таковы были настоящие причины долгих бурь, теперь еще едва утихнувших; можно ли было ожидать их или отвратить? Точно ли можно указать тех, которые их возбудили или усилили своими пылкими страстями, своим неразумным сопротивлением? Пристрастие отвечает утвердительно, но разум говорит: нет. При всем том, неудовольствие государыни по случаю застоя южной армии, смуты в Польше, угрозы Англии датчанам, происки и враждебные замыслы Пруссии, наконец наше безучастие и бездействие, все это не так тревожило государыню, как успехи шведов в Финляндии. Так как она лично распоряжалась военными действиями на севере, то неудачи и успехи военачальников в крае, близком от столицы, сильно озабочивали ее. К тому же гордость ее страдала при виде слабого короля, вредящего ее могуществу и славе. К несчастью, она поставила во главе армии двух генералов: Мусина-Пушкина и Михельсона, из которых первый был недовольно деятелен, а второй недовольно благоразумен. Михельсон сначала смелым натиском и с малыми силами разбил шведов под Кюри[130], но после того был отбит с уроном и ранен. Между тем как Мусин-Пушкин послал отряд для занятия области Саволакс, Густав с 10 000 войска вступил в русские пределы. Пушкин отступил, ожидая, чтобы флотилия принца Нассау-Зигена, стоявшая уже под Выборгом, подошла к Фридрихсгаму.