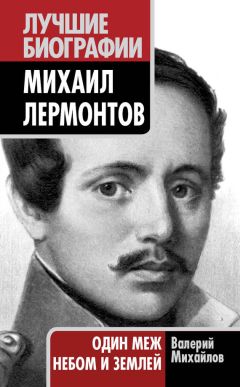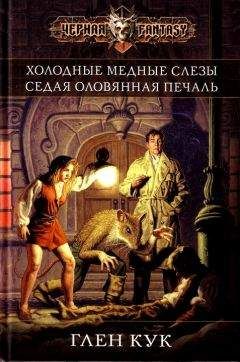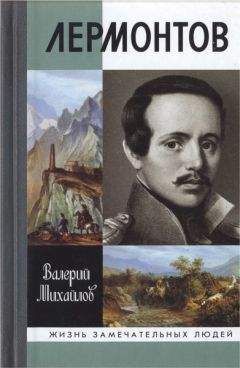Тема предопределения, или фатума, как бы сама собой возникла в творениях поэта из его ясновидений и прозрений…»
Все это, наверное, так и было, как и то, что Лермонтов «ведал властвующего нами», сознательно испытывал его в поэзии и в жизни и бестрепетно искал с ним неравных встреч.
Это– о Роке … да, наверное, тут и намек на сатану , хотя Мейер избегает называть его по имени.
«Можно сказать, что жизнь и творчество Лермонтова были всецело посвящены испытанию этой таинственной силы, разнородным состязаниям с нею, проводимым с бесстрашием, невероятным для смертного человека».
«Всецело…»?
Это вряд ли.
Мейер же сам видит и понимает, как глубоко чувствовал Лермонтов спасительность христианского смирения. Другое дело, что «сложная душа Лермонтова, до конца постигавшая и любившая в других все смиренное и простое, искала для себя иных путей, иного подвига».
Судьбу, понимаемую как рок, всегда враждебный к человеку, поэт действительно испытывал постоянно, принимая ее вызов и сам вызывая ее. Один из его толкователей даже находил, что Лермонтов напоминал в этом античного стоика: подобно древнему греку он не хотел безропотно подчиняться слепой силе рока. Однако в последние годы его жизни эта неустанная борьба ослабевает, утишается. Так называемый лирический герой в его творчестве уже не столько противостоит судьбе, сколько заглядывает в будущее и, что очень по-лермонтовски, уже не старается переломить судьбу, но прямо идет ей навстречу.
А сам поручик Лермонтов, которому наскучили сильные ощущения войны, все сильнее желает заслужить прощение и выйти в отставку…
В рассказе «Фаталист», завершающем роман «Герой нашего времени», есть любопытное признание Печорина о природе его скуки:
«В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге».
Георгий Мейер пишет:
«Лермонтова прельщали в «Фаталисте» не призрачно-отвлеченные рассуждения на тему о предопределении, не романтически-страшные рассказы о потустороннем в уютной комнате, при мерцании догорающего камина, а подлинная способность безликой запредельной силы проявляться и воплощаться в суровой действительности. Лермонтов не соблазнился легкой безвкусной игрою с мистикой, снабженной вещающими привидениями и провалами в адские бездны, он спокойно и сдержанно, даже несколько сухо, рассказал нам жизненный случай, который, если его на самом деле не было, мог бы бесспорно и несомненно произойти. И одной мысли об этом, в сущности, достаточно, чтобы ужаснуться жизненной тайне, привычно и потому обесцвеченно называемой нами Роком, но неумолимой и неукоснительной, как пущенная в ход невидимой рукой машинная шестерня».
Жизненный случай , вкратце, был таков: поручик Вулич, в компании офицеров, бросил вызов «року», Печорин, «шутя», предложил пари; Вулич стреляет себе в висок – осечка! – но проигравшему спор Печорину почему-то видится печать смерти на лице Вулича, и он ни с того ни с сего говорит ему: «– Вы нынче умрете!..» И через полчаса Вулича зарубил пьяный казак, шатавшийся по станице в ночи и до этого зарубивший свинью (спрашивается, а чего она-то бродила потемну по улице?). Казак заперся в доме, на уговоры сдаться у него одно: «Не покорюсь!» – и тогда уже Печорин решается испытать свою судьбу и взять убийцу. Это ему удается…
Печорин после записывал в своем дневнике:
«…офицеры меня поздравляли – и точно, было с чем!
После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..»
Далее следует признание Печорина, под которым вполне бы мог подписаться Лермонтов:
«Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера – напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает!..»
И в конце этого признания:
«…ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!»
Это уже скорее печоринское чувство: Лермонтов гораздо глубже понимал и чуял тайны и жизни и смерти.
Г.Мейер, по сути, вторит Вл. Соловьеву, «наказывая» Лермонтова за фаталистический эксперимент :
«Печорин, от имени которого ведется рассказ в «Фаталисте», несмотря на вызов, брошенный им судьбе, остается безнаказанным. Но за него, как и следовало ожидать, вскоре заплатил жизнью сам Лермонтов…»
Предчувствие, особенно высказанное, конечно, притягивает к себе будущее, – ведь слово имеет вполне материальную силу. Ну, так ведь Лермонтов смолоду предчувствовал свою преждевременную смерть и много писал об этом, словно бы торопил судьбу. И образ «фаталиста» не сам ли он дал публике, даже в этом предупредив своих критиков и толкователей.
Что же касается ярлыка «ницшеанца до Ницше», так недругам только и дай подсказку – тут же задним числом и тебя запишут в «сверхчеловеки». И Василия Розанова порой обзывали «ницшеанцем», – да только по делу ли?..
Куда более точными мне кажутся мысли Иннокентия Анненского о Лермонтове:
«Как все истинные поэты, Лермонтов любил жизнь по-своему . Слова любил жизнь не обозначают здесь, конечно, что он любил в жизни колокольный звон или шампанское . Я разумею лишь ту своеобразную эстетическую эмоцию, то мечтательное общение с жизнью, символом которых для каждого поэта являются вызванные им, одушевленные им метафоры.
Лермонтов любил жизнь без экстаза и без надрыва, серьезно и целомудренно. Он не допытывался от жизни ее тайн и не донимал ее вопросами. Лермонтов не преклонялся перед нею, и, отказавшись судить жизнь, он не принял на себя и столь излюбленного русской душой самоотречения.
Лермонтов любил жизнь такою, как она шла к нему: сам он к ней не шел . Лермонтов был фаталистом перед бестолковостью жизни, и он одинаковым высокомерием отвечал как на ее соблазны, так и на ее вызов. Может быть, не менее Бодлера Лермонтов любил недвижное созерцание, но не одна реальная жизнь, а и самая мечта жизни сделала его скитальцем, да еще с подорожною по казенной надобности. И чувство свободы и сама гордая мысль учили, что человек должен быть равнодушен там, где он не может быть сильным.