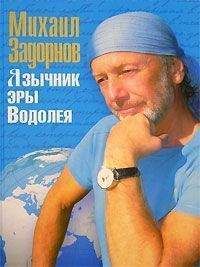Мы уже выпустили в пространство, наполненное горной прохладой и фонтанным плеском, изрядное количество соответственных военно-морских и сухопутно-гражданских выражений. У Марка все равно командировка кончалась, так что не в срочном его возвращении в Москву было дело. И не в погроме — мы оба в него не верили. Почему?.. Сам не знаю, да вот не верили — и все. Майя с маленькими внуками, по ночам одна в квартире, подозрительные звуки за окнами, дыхание спящих детей... Это ее беспокойство, тревога в голосе, увещевания, которые по телефонному проводу Марк посылал ей с расстояния в три тысячи километров. Вот что, пожалуй, было главным... Но если разобраться, не о Майе, доброй и милой жене Марка, мы тогда думали. Как же так — через сорок пять лет после конца войны с фашизмом, через три с половиной десятка лет после "дела врачей" — снова разговоры, слухи о погромах? И где — в Москве?.. Нет, в голове это не укладывалось. Ни у Марка, в его поэтической, порядком поседевшей голове, ни в моей — вполне прозаической, но тоже изрядно поседевшей.
А почему, собственно, не укладывалось? А Сумгаит в ней — укладывается? А Карабах? А наши события в декабре восемьдесят шестого?.. А "Память" — она укладывается? А Кунаев, а Кожинов — укладываются? А — зачем далеко ходить — вся эта история, из-за которой я ушел из редакции — она укладывается?.. Многое, многое, оказалось, не укладывалось, не хотело укладываться в наших головах. И мы пили минералку (она еще имелась в свободной продаже) и пытались затолкать в свои головы весь этот страшный сумбур, эти вопросы без ответов, и — мало того — найти ответ... Найти ответ на вопрос: что в этой ситуации делать? Стенка на стенку?.. Так ведь это там — стенка, а у нас супротив нее — лбы, и только... Что же — заткнуть уши, закрыть глаза?.. Испытанный прием. Да и Бялика мы читали:
"...Ожгла их больно плеть —
Но с болью свыклися и сжилися с позором, —
Чресчур несчастные, чтоб их громить укором,
Чресчур погибшие, чтоб их еще жалеть..."
Что же делать? Как жить дальше?.. (Тогда еще невероятным казалось, что выход есть: взять и уехать...)
И Марк сказал (не только тогда, мне и теперь кажется, что его устами говорил по крайней мере — его тезка-евангелист):
— Хорошо, — сказал он, прихлебнув минералки и затягиваясь сигаретой. — Хорошо, — сказал он, как всегда, слегка грассируя, отчего его вполне семитская физиономия сразу приобрела оттенок непереносимого для любого антисемита аристократизма. — Давай посмотрим на некоторые вещи (он снова вспомнил молодость и минный тральщик...) вот с какой стороны. Мы принадлежим к народу древнему, поднабравшемуся в различных переделках мудрости, почему в конечном счете ему и удалось выжить. И вот он смотрит на другие народы, которые молоды и по сути только начинают жить, все у них впереди... Он как на них смотрит? Ну, к примеру, как старик, попавший в уличную толчею: и тот его пнет, и этот заденет, один уязвит, другой оскорбит... А он все сносит. Не отвечает на толчок толчком, на оскорбление — оскорблением. И не потому, что слаб и стар, во всяком случае — не только потому... А потому, что — мудр и знает: все это молодость, да еще и недостаток приличного воспитания, это пройдет, взрослым всегда неловко и стыдно вспоминать многое из давнишних проделок...
— Значит смириться?..
— Можно сказать и так... А можно быть мудрым. К старости все мудреют. А мы — старый народ, старый... И на своем веку испытали такое, что не дай бог другим...
— Вот, — сказал Марк и пожевал губами. Маленький, сухонький, в тот миг он и в самом деле выглядел старым-престарым стариком. — Не согласен?..
Я потом часто возвращался к его словам.
Ведь и правда, — думалось мне, — эти ребята в редакции... Ну, да, не такие уж они младенцы-несмышленыши, но — что они знают, что знали в тот момент о еврействе, его истории, черте оседлости, погромах на Украине? Что знали из многого, что знал я? Как же мог я спорить с ними на равных? Они не ведали, что творили. Не знали... Так, может быть, мой долг заключался в том, чтобы они знали?.. ("Но разве я не принес Антонову с десяток книг, чтобы он знал? И что же -это помогло?.." — возражал я себе, но мысли, получив толчок, уже катились, мчались дальше). Они не зная, не ведая — причинили боль, сотворили зло, но разве ты сам свободен от подобного?..
Мне вспомнилось, как однажды мы прогуливались по улицам с человеком, которого я считал себе близким, которого много лет с редкостным удовольствием переводил. Кажется, мы и разговаривали в основном о предстоящем переводе: Мухтар М. дорожил каждым словом в своих вещах, и мне нравилось это, хотя порой и осложняло работу... Вдруг он спросил:
— Ну, и как тебе нравится наша "перестройка"?.. — И заглянул, приостановясь, мне в глаза своими внимательными, умными, сухо поблескивающими глазами...
Шла зима 1987 года, всего каких-нибудь два-три месяца назад на Новой Площади ("Площади Брежнева"), перед ЦК, происходило побоище, память о котором будет кровоточить годы и годы... Надо представить, как переживал все это Мухтар и на что надеялся, задавая свой вопрос!.. Но как я ответил?..
— Мне — нравится! — вот как я ответил Мухтару.
Я меньше всего думал при этом о Новой Площади, о крови, пролившейся там. Я целиком сосредоточен был на своей книге, на романе "Лабиринт", пролежавшем у меня в столе два десятка лет и теперь получившем шанс выйти. Роман был связан с "делом врачей", перестройка вызволила его из темницы, в которой томился он с момента своего рождения в 1965 году...
В глазах у Мухтара вспыхнули враждебные огоньки. Вспыхнули и погасли. Мы продолжали говорить о переводе. Мухтар — человек восточной культуры, восточного такта, он умел себя держать. Только мгновенные искорки в его зрачках запомнились мне да туманная кисея, на миг задернувшая его лицо.
Но теперь, когда после того разговора минуло четыре года и я, с камнем на сердце, говорю: "Прости меня, Мухтар!.." простит ли он мне?.. Не знаю.
18
Так надо ли, есть ли у меня абсолютное право — винить другого — и в чем? Где граница между простой небрежностью, внутренней глухотой, тупостью, непониманием, отсутствием такта — и намеренным стремлением обидеть, оскорбить, унизить, спровоцировать на ответное ожесточение?.. Где граница, если так незаметно одно переходит в другое, и что за дело, каким намерением руководствуется наносящий удар? За ударом — боль! Только это, а в конце-то концов, и важно...
Такт... Не о нем ли говорил Марк, когда мы беседовали под плеск фонтанных струй о возможности еврейских погромов? Хотя смешно думать, что столь тонкие материи, как национальный такт, интересуют погромщиков... Но не о них речь! Мне кажется, всем нам его не хватает — и оттого множатся взаимные обиды, злоба, ненависть, ломающая судьбы, жизни... Такт... Что это такое? Врожденное чувство деликатности, осторожности, трезвый ли расчет: не толкай другого, не становись никому на ногу — рано или поздно сам нарвешься... Или такт — результат культуры, в том числе и такт в межнациональных отношениях?.. Такт и политика — можно ли провести границу между ними?..