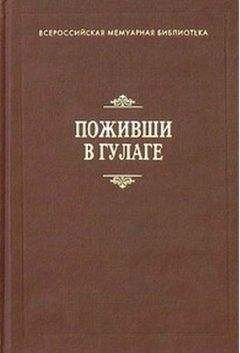Побег Глухова был более дерзким, видимо, заранее продуманным, так как он воспользовался единственной машиной на аэродроме, у которой не было ключа зажигания, а для пуска стартера просто болтались два электрических проводка. Мы все знали эту машину, она обслуживала нас в карьере. Глухов заранее сообразил, что нужно откинуть борта, чтобы просматривался пустой кузов, и тем самым усыпить бдительность охраны. И время для побега оказалось выбрано удачно: к концу обеда, когда еще не кончился перерыв, — охрана не была так сосредоточена, но машины уже могли выезжать.
Весь лагерь радовался побегу, хотя бы из-за доставленной неприятности охране и куму, и надеялся, что он закончится благополучно. На другой день прошел слух, что машину нашли брошенной в двадцати километрах от лагеря, что Коробка застрелили, но Глухов ушел с концом. Возможно, что так оно и было на самом деле.
К концу лета
К концу лета работы на аэродроме заметно подвигались к завершению. Больше не приходилось ковырять тягучую глину. На полосе дымил огромный котел с топкой: варили асфальт. Зэки уже поговаривали меж собой:
— Куда нас теперь?
— Да куда ни отправят, хуже не будет.
Бывалые вспоминали хорошие лагеря с благоустроенной территорией, теплыми бараками и даже художественной самодеятельностью. Слушая их, я тоже думал, что случайно попал в какой-то временный ОЛП, и начинал надеяться на лучшее.
Погода менялась, по утрам уже становилось холодно. Пальто мое, воротник которого объели крысы, украл какой-то освободившийся и загнал его за самогон местным жителям, которых мы никогда не видали, потому что вместо спаленной войной деревни они жили в землянках, вырытых на склоне пологого холма. Хотя я и заявил о пропаже надзирателю и пальто мое даже нашли, мне его не вернули. Я так и не понял, на каком юридическом основании оказалось невозможным вернуть украденное. Всего скорее причиной явилась моя 58-я статья, обладатель которой не является равноправным человеком, который если захочет жить, то обойдется и без пальто.
Часто моросил дождь, холодный, колючий. В такое время настроение портилось, мы чаще обычного считали отбытые дни. Шел все еще первый год моего заключения, конец которого не представлялся как конец вселенной. В один из таких сырых дней, когда мы построились, закончив работу, и нас стали считать, оказалось, что одного не хватает. Побег! Просчитали еще раз. Тут же быстро установили, что нет Володьки Радзиковского из нашей бригады. Да вроде недавно его видели; когда успел сбежать, да еще на открытом месте? Может, в коллекторе где? Стали искать и нашли его спящим в рядом лежащей железной трубе. Выволокли.
— Да я от дождя в трубу спрятался, — объяснил он, — и заснул.
Начальник конвоя сорвал злость, дал ему по шее. Посмеялись, но мы так и остались при своем мнении, что Радзиковский хотел сбежать.
Бывали и солнечные дни, в один из которых мы увидели странное зрелище. В отдалении от нас толпа заключенных, человек в пятьдесят, как стая грачей перед отлетом, носилась по аэродрому наперегонки, метаясь из стороны в сторону.
— Ловят кого-то, — первым догадался Володька Вербицкий и помчался туда же.
Нам видно было издали, как, размахивая полами шинели без пуговиц, словно крыльями, он так же стремительно кидался по направлению постоянно меняющейся кривой. И вдруг все успокоилось, бегающие ненадолго собрались в толпу и стали расходиться. К нам вернулся Вербицкий, довольный, улыбающийся.
— Вот, — протянул он руку, — поймал.
На его ладони лежал задавленный темной окраски зверек размером чуть больше мыши.
— Ласка, — объяснил Володька.
— И зачем тебе она?
— Как — зачем? — в свою очередь удивился он. — Это же мясо.
И действительно, он нашел проволочку, наколол на нее тушку зверька, подпалил ее в топке битумного котла и съел.
— Ну как? — спросил я его.
— Мало больно. Крысу бы килограмма на полтора.
Глава 13
Новый этап. Медвежьи озера
Конвоир Перепелочкин
В один из дней со скупым солнцем, но не очень холодных после тщательного шмона наших пожитков нас погрузили в кузова машин — тесно, плотно, как неживых. По углам кузова — конвоиры с карабинами. Прощай, ОЛП. Снова этап.
Нас повезли к Вязьме, к развалинам вокзала. Мы думали, чтобы погрузить в вагоны. Но проехали мимо города куда-то на восток, к Москве. Бесконечно долго тряслись по разбитым дорогам. День кончился, ехали в темноте. Остановились уже ночью в лесу. Сразу узнали знакомые очертания лагерной зоны: колючая проволока, колченогие вышки, домушка проходной, почему-то называемой вахтой. Только все более капитальное, надежное, сделанное аккуратно; даже лампочки горят более ярко, чем в Вязьме, без страха перед воздушными налетами. За проходной — какой-то пустырь, своего рода плац. За ним — опять проволока, и уже там, за ней, с трудом различались в темноте деревянные бараки. Мы почувствовали некоторое облегчение: кажется, здесь действительно будет не хуже.
Открыли задний борт. С трудом выпрямляя онемевшие ноги, я прыгнул из машины последним. Едва лишь коснулся земли, как за моей спиной раздался выстрел. Все опешили, не понимая, что произошло. И тут в замершей тишине громкий, тоже как выстрел, голос:
— Перепелочкин застрелился.
Почему-то всегда хорошие люди уходят из жизни прежде времени. Пройдя через семь исправительно-трудовых лагерей и отдельных лагерных пунктов, я не встречал более случая, чтобы заключенные любили своего конвоира, как это было с Перепелочкиным, рядовым бойцом военизированной охраны ОЛП 6 под Вязьмой. Простой деревенский, видимо, малообразованный парень с круглым румяным лицом в веснушках, явно выражающим простодушный характер, с походкой и манерами увальня; несмотря на незавидное житье одинокого солдата презренной службы, он никогда не унывал, не задумывался о лучшей доле, а главное, не лишен был тех высоких нравственных качеств, которые в то время еще встречались у людей из сельской глубинки, которые спонтанно сохранились и передавались из поколения в поколение в крестьянских семьях, истоком своим имея, скорее всего, правдивое слово деревенских священников, по образу жизни мало чем отличавшихся от своих прихожан. Перепелочкин не знал различия между заключенным и вольнонаемным и уж тем более понятия не имел о каких-то «врагах народа», которых ему было поручено охранять пуще глаза. Для него все были равны, мало того, он всем был одинаково рад, как самым близким. Случалось не однажды видеть, как на утреннем разводе его вдруг отстраняли от участия в конвое. Понурый, будто побитый, уходил он в сторону, вероятно чувствуя себя в это время изгоем. Но как моментально он преображался, как оживало его лицо, какая довольная улыбка широко его освещала, когда вдруг за недостатком бойцов его тут же возвращали в конвой. Он не шел, он бежал обратно чуть ли не вприпрыжку, радуясь, будто вырвался на свободу, и, довольный, шел в конвое, молча улыбаясь колонне заключенных. Его понимали и так же молча приветствовали.