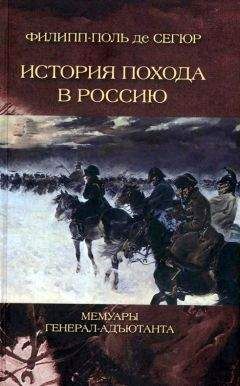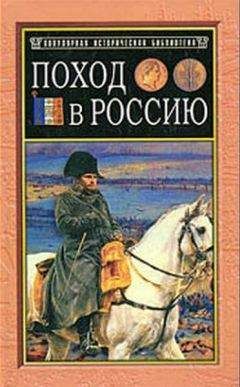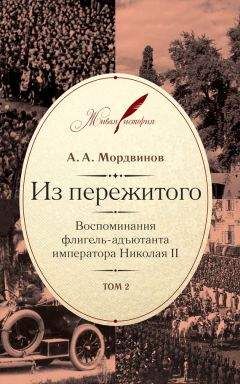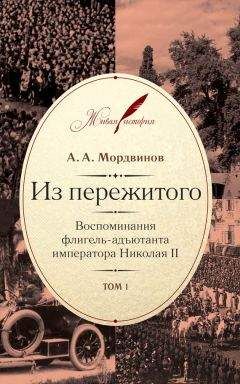Здесь мы начертали железом и кровью одну из великих страниц нашей истории. Об этом говорили еще некоторые останки, но скоро и они исчезнут. Когда-нибудь путник равнодушно пройдет мимо этого поля, ничем не отличающегося от всякого другого; но когда он узнает, что это поле великой битвы, он вернется назад, долго с любопытством будет рассматривать это место, постарается запомнить всё до мельчайших подробностей и, без сомнения, воскликнет: «Что за люди! Что за командир! Какая судьба! Это те самые люди, которые за тринадцать лет перед тем на юге, в Египте, попробовали победить Восток и разбились о его ворота! Позднее они победили всю Европу! И теперь они возвращаются с севера, чтобы снова сразиться с Азией и найти свою погибель! Что же толкало их на такую бродячую жизнь? Они ведь не были варварами, искавшими лучший климат, удобные жилища, большие сокровища; напротив, они обладали всеми этими благами, они наслаждались всякими утехами, и они покинули всё, чтобы скитаться без убежища, без пищи, чтобы либо погибнуть, либо превратиться в калек! Что принудило их к этому? Что, как не вера в их командира, непобедимого до сих пор! Желание довести до конца столь славно начатый труд. Опьянение победой и главным образом той ненасытной страстью к славе, тем могучим инстинктом, который в поисках бессмертия толкает людей в объятия смерти».
Армия сосредоточенно и безмолвно проходила мимо этого зловещего поля, как вдруг, как рассказывают, здесь была замечена еще живой одна из жертв того кровавого дня, оглашавшая стонами воздух. Подбежали: это был французский солдат. В битве ему раздробило обе ноги; он упал среди убитых; его забыли. Сначала он укрывался в трупе лошади, внутренности которой были вырваны гранатой; затем в течение пятидесяти дней мутная вода оврага, куда он скатился, и гнилое мясо убитых товарищей служили ему лекарством для его ран и поддержкой для жизни. Мы спасли этого несчастного.
Дальше был виден большой Колоцкий монастырь, превращенный в госпиталь, — еще более ужасное зрелище, чем поле битвы. На Бородинском поле была смерть, но и покой: там по крайней мере борьба была окончена. В Колоцком монастыре она еще продолжалась: там смерть, казалось, всё еще преследовала тех, кому удалось избежать ее на войне.
Тем не менее, несмотря на голод, холод, полное отсутствие одежды, усердие нескольких хирургов и последний луч надежды поддерживали еще большую часть раненых в этой нездоровой жизни. Но когда они увидели, что армия возвращается и они снова будут покинуты, что для них нет больше никакой надежды, они выползли на порог и, встав вдоль дороги, протягивали к нам с мольбой руки!
Император отдал приказ, чтобы всякая повозка, каково бы ни было ее назначение, подобрала одного из этих несчастных, а наиболее слабые были оставлены, как в Москве, на попечение тех русских пленных и раненых офицеров, которые выздоровели благодаря нашим заботам. Наполеон остановился, чтобы дать время выполнить это приказание, и он даже воспрянул духом.
Во время этой остановки мы стали свидетелями одного жестокого поступка. Несколько раненых разместили на повозках маркитантов. Эти негодяи, повозки которых были нагружены добром, награбленным в Москве, с ропотом недовольства приняли новую поклажу; пришлось заставить их взять; они замолчали. Но едва мы тронулись в путь, как они стали отставать и пропустили всю колонну мимо себя; тогда, воспользовавшись временным одиночеством, они побросали в овраги всех несчастных, которых им доверили. Лишь один из этих раненых остался в живых, и его подобрала ехавшая следом карета; от него и узнали об этом бесчестном поступке. Вся колонна содрогнулась от ужаса, который охватил и императора, потому что в то время страдания его не были еще настолько сильны, чтобы заглушить жалость и сосредоточить всё внимание только на самом себе.
Вечером этого бесконечного дня императорская колонна приблизилась к Гжатску; все были изумлены, встретив на своем пути только что убитых русских, причем у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова и окровавленный мозг разбрызган тут же. Было известно, что перед нами шли две тысячи русских пленных и что их сопровождали испанцы, португальцы и поляки. Все, смотря по характеру, выражали кто негодование, кто одобрение, кто полнейшее равнодушие. Вокруг императора никто не обнаруживал своих чувств.
Коленкур вышел из себя и воскликнул:
— Что за бесчеловечная жестокость! Так вот та цивилизация, которую мы несли в Россию! Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство? Разве мы не оставляем ему своих раненых и множество пленников? Разве некому будет жестоко мстить?
Наполеон хранил мрачное молчание; но на следующий день эти убийства прекратились. Ограничивались тем, что обрекали этих несчастных умирать с голоду за оградами, куда их загоняли на ночь, словно скот.
Без сомнения, это было варварство, но что же было делать? Произвести обмен пленными? Неприятель не соглашался на это. Выпустить их на свободу? Они стали бы рассказывать о нашем бедственном положении и, присоединившись к своим, яростно бросились бы за нами. В этой беспощадной войне даровать им жизнь было равносильно тому, чтобы принести в жертву самих себя. Приходилось быть жестокими по необходимости. Всё зло было в том, что мы попали в такое ужасное положение!
Впрочем, с нашими пленными солдатами, которых увели внутрь страны русские, обходились нисколько не человечнее; а здесь уже нельзя было сослаться на крайнюю необходимость!
К ночи добрались до Гжатска. Этот первый зимний день был заполнен ужасными впечатлениями: вид поля Бородинского сражения, вид двух покинутых госпиталей, множество пороховых ящиков, преданных огню, расстрелянные русские, бесконечно длинный путь и первые зимние холода — всё это действовало тяжело. Отступление превратилось в бегство. Невиданное зрелище: Наполеон должен был уступить и бежать!
Многие из наших союзников радовались этому, испытывая то скрытое чувство удовлетворения, которое возникает у подчиненных при виде того, как их начальники теряют, наконец, свою власть и, в свою очередь, принуждены подчиняться. Прежде они чувствовали мрачную зависть, вызываемую обыкновенно в людях чьим-нибудь выдающимся успехом, которым редко кто не злоупотребляет и который оскорбляет равенство — эту первую потребность людей. Но эта злая радость скоро погасла и исчезла во всеобщем горе!
В своей оскорбленной гордости Наполеон угадывал подобные мысли. Мы заметили это на стоянке в тот же день: здесь, посреди замерзшего поля, изборожденного следами колес и усеянного русскими и французскими повозками, он хотел с помощью своего красноречия избавиться от тяжкой ответственности за все эти несчастья. Он заявил, что виновником этой войны, которой он сам всегда опасался, он считает NN и выставляет его имя на позор перед всем миром — русского министра, продавшегося англичанам.