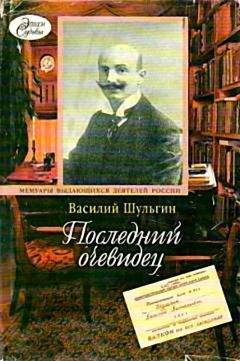Но в глазах его, умных и зорких, я прочел:
«Тридцать верствов так было. А теперь, когда обозы тут прошли, что значит верства?»
Я увидел их, то есть обозы, когда, пройдя местечко, вышел в поле. Они не двигались. Они завязли в грязи. Остановились, видимо, давно и безнадежно. Белые среди черного «повидла». Белые потому, что они везли мешки с мукой. Коней, бессильных перед грозной стихией, выпрягли.
Где они? Там же, где и «земляки», — там, в сосновом лесочке. Походную кухню кони, люди все же вытащили. Она уютно дымила между красноватыми стволами.
Но мне нельзя было кейфовать.
Шел, шел ногами, конечно, но иногда не без помощи рук. Неужто на четвереньках? Нет, до этого не дошло, слава Богу. Но руки работали в том смысле, что за «ушки» придерживали сапоги, иначе вязкая грязь стащила бы их с ног. Это испытание наступало тогда, когда лес отступал от дороги, то есть от разъезженного поля. Когда же он был близко, я шел по краю поля, между соснами, по влажной хвое и блаженствовал. Я был один, совершенно один. Это счастье редко выпадает на войне. Она, кроме всего прочего, мучает таких мизантропов, как я, своим… вечнолюдием.
Этот лес шумел ласково и печально. Будь проклята война, громыхающая пушками и буйно веселая среди потоков крови!
Я не боялся сбиться с пути. Черная дорога, то широкая, как Черное море, то узкая, как Дарьяльское ущелье, вела меня.
Кроме того, она была и «столбовая». Ее сопровождали телеграфные столбы и проволока, трепетавшая электрической жизнью. Иногда, отдыхая, я опирался спиной о дубовый ствол, ставший столбом, и слышал некий слабый звук. Конечно, это не была электрическая волна, она беззвучна. Это звучала проволока, как звучит струна Эоловой арфы, — от ветра. Приложив ухо к столбу, я услышал сильный, низкий звук, полный и приятный, красиво насыщенный обертонами. Казалось, он должен принести успокоение путнику. Но успокоение не приходило и не могло прийти. И потому столб звучал хотя величаво, но печально. Это величие было каким-то обреченным.
Отдохнув, я пошел дальше. Перед закатом солнце пробивалось сквозь тучи, и стволы сосен были багровыми. Я стоял на пустыре, снова опершись о телеграфный столб, на уже его не слушал. Солнце зайдет, наступит ночь. Я шел очень долго, пожалуй, прошел уже все пятнадцать верст, а жилища не видел. Придется ночевать в лесу, на хвое. Она мягкая, но мокрая, холодная. Что делать?
Но тут пришло спасение. Оно появилось в образе молодой девушки. Она пробиралась между соснами, по краю пустыря. Я не успел ее окликнуть, как она сама пошла к телеграфному столбу, который я обнимал, чтобы не упасть. Приблизившись, но не совсем, она сказала:
— Пане ранены?
В голосе ее была музыка сочувствия. Я ответил:
— Нет. Только бардзо заменчоны (измучен).
Она спросила:
— Дзе пан так иде? То е далеко?
И улыбнулась. Тогда я увидел, что она миловидна. Серые глаза в темных ресницах, светловолосая, с черными бровями, а улыбка «балетная». Ее умеют делать все польки, независимо от сословия. Она сказала:
— Далеко, проше пана. — Прибавив построже: — Так не может быть, проше пана, ночь находит.
— А цо мам джещать? (А что мне делать?)
Она призадумалась:
— Тутай ест една халупа. Тутай зараз. Нех пан идзе так.
Она показала рукой:
— Не далеко! — И, улыбнувшись подбадривающе, тряхнула головкой. Она была в платочке. Если бы его не было, сережки в ушках вздрогнула бы горделиво. По одному этому движению я понял, что в ней польская кровь.
Я поблагодарил ее:
— Бардзо дзенькую, проше паненки! — И прибавил неожиданно для самого себя: — Нех паненка идзе до дому. И то прендко! Ноц заходзи.
В это мгновение умирающее солнце зарумянило девушку. Она смотрела на меня с улыбкой матери ребенку, который шалит.
Через четверть часа появился красный слабый свет, пробивавшийся через лес. Еще пять минут, и можно было различить хату под соломенной крышей, темной от моха. Я постучал в низенькую дверь. Услышав «проше», наклонил голову. Свет был из пылающей печи. Старик сидел за столом, две девочки держались за юбку матери, стоявшей у печки.
— Добрый вечер!
— Добрый вечер, пану!
Я грузно опустился на скамью и полез в карман, протянув девочкам конфетку:
— Цукерку?
Старшая девочка, ей было лет пять, выпустила юбку матери.
За ужином беседовали. Я узнал, что старик — свекор женщины, а мужа взяли на войну. Что с ним, она не знает. Быть может, девочки уже сиротки. При этом слеза упала в вареники. Девочки, видя, что мать плачет, тоже заплакали. Старик сказал:
— Годи!
Они затихли, а он прибавил:
— Жив Янек!
Они поверили и стали меня расспрашивать, куда я иду. И я узнал, что до Радомысла пятнадцать верст и дорога все идет лесом. Еще подали похлебку с грибами в доказательство, что тут лесное царство.
Наконец гостя и девочек уложили спать. Пана на сено. А девочек? Недалеко от красной кровати к потолку была привешена корзина, служившая колыбелью. Туда поместили малюток. Они стояли там на коленках. Старшая, держась за веревки, на которых корзинка висела, легонько раскачивала колыбель. Она, вероятно, хотела убаюкать сестренку, но убаюкала меня.
Качание корзинки меня усыпляло. Я блаженно закрыл глаза, но раскрыв их, услышал пение. Тоненьким голоском старшая выводила слова молитвы, а младшая только подпевала:
— Мария, Мария.
И я заснул под это видение. Два ангелочка пели, покачиваясь в небе:
— Мария, Мария.
Что мне приснилось? Не помню, не знаю. Но, конечно, божий рай! Позже я узнал, что рай находится в аду, — я хочу сказать о войне.
* * *
Чуть брезжило, когда я проснулся. Мне легко было встать. Одеваться не надо было, ведь я не раздевался. Мне надо было бы выпить кружку чая, но хозяева крепко спали. Я положил на стол деньги — благодарность за гостеприимство — и вышел, стараясь не скрипеть дверью.
Через просвет в соснах я увидел утреннюю звезду. Денницу, иначе Венеру.
Ночью подморозило, и приятно было идти по отвердевшей земле.
Пока держался легкий утренний морозец, идти было легко. Но когда солнце стало пригревать, землю снова расквасило. Однако, держась леса, еще можно было двигаться. Когда же лес далеко раздался в обе стороны, я опять очутился во власти грозной и грязной стихии.
Наконец, «претерпев удары судьбы», я вошел в город Радомысль. Спрашивая встречных и поперечных, нашел особняк, где было что-то написано по-русски.
Пятнадцать верст я прошел за четыре часа и примерно в пол-одиннадцатого вошел к Стаховичу. Увидев меня, он закричал:
— В постель!