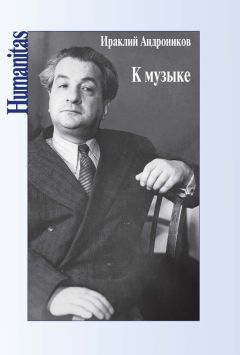Но не надо думать, что моя жизнь на военной службе была военной только по названию. Хотя я принадлежал к крайнему призывному возрасту, мое поступление на военную службу как бы перенесло меня обратно к моим двадцати годам. Я был полон, чтобы не сказать одержим смелостью, отвагой, дерзостью; ни одна работа не казалась мне недостойной внимания, никакой риск меня не страшил. Бывали дни, когда я, выполняя приказ командования, часами ездил верхом по горам и проявлял такие выносливость и отвагу, которые, как мне кажется, намного превышали те, что мне приходилось затрачивать в качестве вокалиста, когда я работал над преодолением трудностей какой-нибудь музыкальной партии. Я стал хорошим шофером и несколько раз водил тяжелые автокары, груженные боеприпасами, из Терни в Фолиньо. Не раз пришлось мне на мотоцикле сопровождать начальство, ездившее инспектировать разные воинские части. Взлетал я и с аэродрома с лейтенантом Деболини, тосканцем, отличнейшим летчиком, впоследствии тяжело раненным на фронте. Я даже сопровождал в высоту небес знаменитого аса Саломоне, который для собственного удовольствия производил различные фигуры высшего пилотажа, более рискованные и смелые, чем та вокальная эквилибристика, которой я в «Цирюльнике» и «Гамлете» столько раз ошеломлял толпы слушателей на сценах всего мира. Условия войны рассеяли наш кружок. Я не помню, куда были направлены другие, не помню даже, куда был назначен милейший Каччиалупи. Что же касается Винченцо Танлонго, то он был направлен на передовые, где героически сражался до самого конца войны.
С его отъездом я сразу лишился своих привилегий, и в чине старшего ефрейтора был назначен командиром подразделения зенитных пулеметчиков, защищавшего завод и доменные печи, где кипела лихорадочная работа по производству необходимого для защиты родины. С зенитными пулеметами, направленными в небо, я все время пребывал в ожидании вражеских самолетов, жаждая случая совершить нечто доблестное или хотя бы полезное. Но за все время, что я командовал пулеметным подразделением, ни один вражеский самолет не прорвался к доменным печам. Я спал вместе с шестью людьми в заброшенной пастушьей хижине высоко на горе Кампомиччиоло и спускаться в город мне удавалось очень редко. В этом, волею судеб выпавшем мне на долю, вынужденном бездействии зенитного пулеметчика, -другой на моем месте, вероятно, заболел бы от скуки или, во всяком случае, сильно затосковал. Со мной этого не случилось. Среди моих пулеметчиков я чувствовал себя тоже молодым парнем, особенно общаясь с теми — а их было порядочно — которые были моложе меня лет на двадцать. Мне нравилось не отделяться от них с угрюмой педантичностью человека, опасающегося потерять свой авторитет, а наоборот, мне хотелось быть с ними как можно ближе и жить их жизнью. Мы вставали на рассвете, проверяли готовность наших пулеметов, а затем, раздевшись до пояса, бежали мыться на речку в любую погоду, как я делал это когда-то в Веллетри вместе с моим товарищем по работе над разборкой огромных котлов, Пиладе Беллаталла. Иногда — и довольно часто — меня страшно тянуло петь, и тогда мой голос, как колокол, несся через горы, а пение петухов во всех уголках зеленой Умбрии отвечало мне, как эхо.
Но, чтобы быть до конца правдивым, должен сказать, что на меня от времени до времени нападала непреодолимая тоска по театру. И вдруг совершенно неожиданно меня через военное министерство официально вызывает театр парижской Оперы для выступления в спектакле в пользу французского Красного Креста! Это была радость. И вот я из пулеметчика превращаюсь на несколько часов в принца датского. После представления «Гамлета» я вышел на сцену и спел патриотические гимны как по-французски, так и по-итальянски. Театр был до отказа переполнен публикой. Раздавались мощные взрывы аплодисментов и громкие возгласы: «Vive la France! Vive l'ltalie!* Я необыкновенно воодушевился и, хотя не совершил ни одного героического поступка, искренне гордился тем, что я итальянец и что я принес в другую страну свой вклад добра и пользы. Когда после патриотических гимнов публика немного успокоилась, меня попросили спеть какие-нибудь песни. На сцену было выдвинуто фортепиано, и я спел две песни Марио Коста. Выдающийся автор «Истории Пьеро» был в театре. Я обнаружил его в кресле первого ряда, но он никак не ожидал от меня подобного сюрприза. Кончив его романсы под восторженные возгласы и аплодисменты, я указал на него публике и сказал следующее: «Respectable public, ces applaudissements ne m'appar-tiennent pas, mais appartiennent a Mario Costa, qui a cree les belles melodies que vous venez d'entendre!** Публика устроила Коста такую овацию, которая по-видимому, очень растрогала чуткую душу дорогого маэстро. Поднявшись ко мне в уборную, чтобы поблагодарить за радость, которую я ему доставил, он сказал, что плачет от счастья, видя свое имя соединенным с моим в этом празднике франко-итальянского искусства.
* «Да здравствует Франция! Да здравствует Италия!» (франц.).
** «Почтенная публика, эти аплодисменты принадлежат не мне, а Марио Коста, создавшему те прекрасные мелодии, которые вы сейчас прослушали» (франц.).
Через два дня я выступил в благотворительном спектакле в театре Комической Оперы в «Паяцах» Леонкавалло. Оба спектакля принесли доход в двести семьдесят тысяч лир. А на следующий день я выехал обратно в Кампомиччиоло, где мои пулеметчики ждали меня с величайшим нетерпением.
На этот раз я в Кампомиччиоло оставался недолго, так как вскоре заболел и был отправлен в военный госпиталь, где пролежал целую неделю. Врачи нашли, что мне необходимо переменить климат, и меня перевели в команду противовоздушной обороны во Флоренцию. Мой отъезд — к чему скрывать — оказался невозместимой утратой для моих товарищей по оружию. За эти долгие месяцы они привыкли к питанию совсем иному, чем обычный военный паек. Каждые две недели я выписывал в нашу пастушью хижину ящики макарон, славное вино из Гроттафераты, сыр пармезан из Рима; таким образом, они два раза в день получали в виде пайка гору макарон и по стакану вина, не разбавленного водой. Прежде чем уехать петь во Францию, я распорядился, чтобы они в мое отсутствие продолжали пользоваться этим пайком. Благодарность этих шести юношей была так велика, что, когда меня назначили во Флоренцию, они, прощаясь со мной, плакали так, точно теряли любимого брата. Между прочим я таким образом, а также средствами более эффективными, а именно денежными, пытался поддерживать душевное равновесие многих отцов семейств, моих ровесников и товарищей по оружию, семьи которых остались дома по большей части без средств к существованию. И я поступал так везде, куда бы меня ни забрасывали обстоятельства, будь то в казармах Фердинанда Савойского в Риме, будь то в Чези в 207-м пехотном, будь то в частях 33-го артиллерийского полка в Терни. Само собой разумеется, что обязанность, которую, я взял на себя, требовала огромных затрат. И мне приходилось так часто обращаться домой с требованием все новых и новых денежных переводов, что жена моя заволновалась: она вообразила, что все эти тысячи и тысячи лир просаживаются мной в карты! Во Флоренции ...