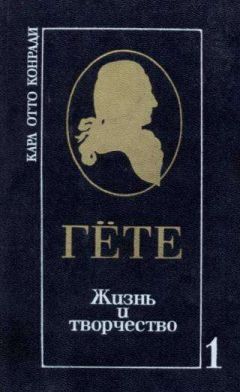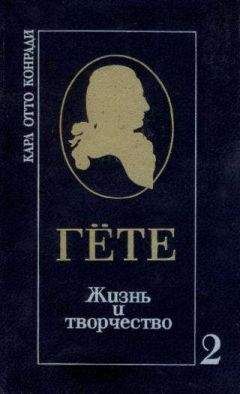торое, правда не сразу оказало свое действие. Для начала Виланд объявил коллеге Кнебелю коротко и ясно, что никаких иных целей Гёте своим произведением преследовать не мог, кроме как посмеяться над ним. И отказался «совершенно решительно и окончательно от высокой чести иметь что–либо общее со всеми этими гениями и творческими личностями» (24 декабря 1774 г.). В середине января положение было уже несколько лучше. «Эти грубости» о Гёте, говорил теперь Виланд, он написал тогда «в припадке ипохондрии». «Между тем я самым радикальным образом излечился от всякой неприязни по отношению к этому необычному великому смертному. Без сомнения, рано или поздно я познакомлюсь с ним лично […]. Короче, я готов с ним встретиться и говорить, и если после этого мы не станем друзьями, то дело будет не во мне» (письмо Кнебелю от 13 января 1775 г.). Так возникал контакт двух крупнейших художников просвещенного Веймарского двора. Надо думать, что и из Франкфурта–на–Майне до Виланда дошли какие–то лестные отзывы о молодом поэте, иначе чем объяснить столь внезапную и решительную перемену позиции? Возможно, что кое–кто в Веймаре попал под влияние того отношения к Гёте, которое сформулировал Кнебель в своем подробном письме к Бертуху от 23 декабря 1774 года: «Гёте очень много думает о творчестве Виланда, оттого–то они и сталкиваются. Гёте существует в постоянной внутренней борьбе, в постоянном возбуждении, потому что все окружающее очень интенсивно на него воздействует. Отсюда его выпады и капризы — все это идет, конечно, не от злых намерений, а исключительно от огромности его гения. У него духовная потребность создавать себе врагов, с которыми можно поспорить; и выбирает он их, конечно, не из худших».
На Карла Людвига фон Кнебеля, «закадычного» друга, одного из немногих, кому Гёте говорил «ты», дни, проведенные во Франкфурте–на–Майне, произвели глубокое впечатление. Он признавался, что думает о Гёте «почти с восторгом». После попытки объяснить его «капризы» он писал в том же самом письме: «Серьезная сторона его личности чрезвычайно значительна. Я получил от него целую охапку фрагментов, среди которых один о «Докторе Фаусте», где есть великолепнейшие сцены. Он вытаскивает манускрипты из всех уголков своей комнаты».
286
В те годы между Гёте и одной из читательниц «Вертера», которая сначала оставалась неизвестной, завязались отношения, которые стали столь необычными и значительными, что о них стоит специально рассказать. Поклонница сенсационного романа пожелала вступить с его создателем в эпистолярный контакт. Результат превзошел все ожидания: в переписке быстро возникла дружба, некоторые письма читались почти как любовные, однако их авторам так никогда и не суждено было познакомиться. Письма Гёте к Густхен Штольберг, — инициатором переписки была именно она — стали впечатляющими свидетельствами о его жизни критического периода. Простотой, сердечностью, вызывающей доверие искренностью Густхен Штольберг сразу завоевала симпатии молодого человека, к тому же он, конечно, был польщен. Как будто говоря с самим собой и в то же время обращаясь к своей сочувствующей участливо–безучастной корреспондентке, Гёте повествует в своих письмах о своем состоянии. Иногда они содержат поразительно объективные самооценки: «Когда мне очень тяжело, я обращаю свои взоры к северу, туда, где вдали в двухстах милях от меня живет моя возлюбленная сестра» (31 июля 1775 г. [XII, 164]). Когда позднее в Веймаре любимой наперсницей стала Шарлотта фон Штейн, он постепенно прекратил переписку с далекой подругой. Ни сама она, ни ее письма были уже не нужны.
Густхен — это была Августа Луиза графиня цу Штольберг, рожденная в 1753 году сестра Штольбергов, графов Кристиана и Фридриха Леопольда цу Штольберг. С 1770 года она жила — еще незамужняя — в пансионате для дам в Отерзене в Гольштинии. 14 ноября 1774 года она под впечатлением только что прочитанного «Вертера» спросила Генриха Кристиана Бойе: «Гёте, наверное, очень интересный человек! Скажите мне, Вы с ним знакомы? Я хотела бы с ним познакомиться!» Однако тут же последовала и критика. Гёте надлежало бы вскрыть «ошибки в мышлении Вертера» или по крайней мере показать читателю, что он видит эти ошибки. (То же пожелание высказал Лессинг: «Итак, мой милый Гёте, еще одну главку в конце, и чем циничнее, тем лучше!». Письмо к Эшенбургу от 26 октября 1774 г.) В конце 1774 года братья Штольберг, сами не чуждые поэзии, члены поэтического кружка «Гёттингенская роща», написали Гёте.
287
Вскоре после этого, пока еще анонимно, пришло и письмо от Августы. Гёте, видимо, был тронут и приятно удивлен. Его ответ «дорогой незнакомке» (примерно от 18—19 января 1775 г.) написан в тоне душевного доверия, впрочем, это, видимо, очень соответствовало мечтательной чувствительности самого письма. «Моя дорогая — я не хочу давать Вам имени, ведь что значат имена подруга, сестра, любимая, невеста, супруга или какое–то слово, объединяющее вместе все эти понятия, по сравнению с непосредственным чувством, которое — я больше не могу писать — вызвало Ваше письмо, застигшее меня в какой–то странный час». Письма Гёте к Густхен Штольберг — фрагменты юношеской исповеди, где «беспокойный» (3 августа 1775 г.) имел возможность облегчить душу, написав обо всем, что его занимало и мучило. Они совершенно точно выстроены и в то же время передают что–то от подлинности переживания момента, в который возникли. Правда, часто Гёте признавался, что больше писать не может, что больше ему нечего сказать. Дистанцию, отделявшую его от подруги на севере, одними только письмами преодолеть не удавалось.
Много позднее, в октябре 1822 года, Августа, теперь овдовевшая графиня Бернсторф, вновь написала другу своей юности, чтобы напомнить ему об обязанностях истинного христианина: «Мой спаситель — это также и Ваш, нет иного спасения и блаженства». Это письмо побудило старого Гёте написать ответ, в котором он значительно, со спокойным достоинством формулирует кредо своего благочестия. «Лишь бы ни на миг не покидало нас ощущение вечного, тогда мы не страдаем и от этого бренного времени […]. В царстве отца нашего много стран, и так как он уготовил нам здесь на земле столь приветливые селения, то, верно, и на том свете позаботится о нас обоих» (конец октября — ноябрь 1822 г. [XIII, 465]). В письме от 13 февраля 1775 года двадцатипятилетний Гёте наметил двойственный автопортрет, который выражает больше, чем все ученые толкования: «Попробуйте, моя дорогая, представить себе Гёте, как он, наряженный в праздничный сюртук, да и вообще с головы до ног весьма франтоват, со всех сторон освещенный мишурным сиянием канделябров и люстр, потом среди пестрой толпы вдруг останавливается, пронзенный взглядом прекрасных глаз, у игорных столов… Из салона спешит на концерт, оттуда на бал, легкомысленно и увлеченно ухаживает за хорошенькой блондинкой.