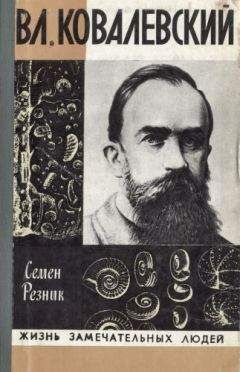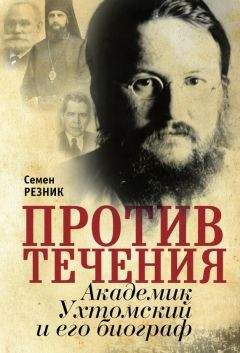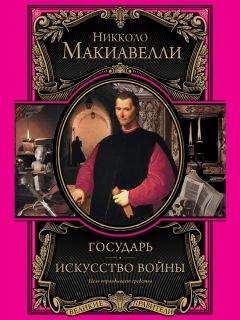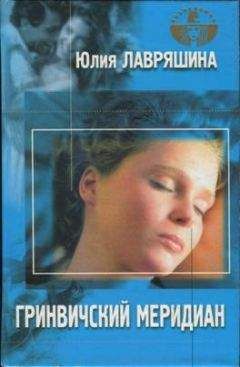Может быть, твой брат согласится взять к себе Фуфу и М[арию] Дм[итриевну] на все лето за 200 — 300 фр[анков] в месяц, а я проживу в Берлине тоже приблизительно на такую же сумму. Если же и это еще слишком дорого, то, разумеется, не остается ничего, как вернуться в Москву.
Прошу тебя, напиши мне откровенно о положении твоих дел и твои надежды.
[...] Относительно наших взаимных отношений тебе беспокоиться нечего. Наши натуры такие разные, что ты имеешь способность иногда на время сводить меня с ума, но лишь только я предоставлена самой себе, я возвращаюсь к рассудку, и, обсуждая все хладнокровно, я нахожу, что ты совершенно прав, что самое лучшее нам пожить отдельно друг от друга. Ни злобы я против тебя не чувствую, ни желания во что бы то ни стало вмешиваться в твою жизнь. Поверь, что если только финансы или отсутствие их, не обрежет нам все крылья, то я тебе ни в чем помехой не буду. Но еще раз повторяю тебе, не старайся разбогатеть a tout prix65, ты довольно проучен опытом, как это опасно.
Твоя Софа.
Фуфа здорова».
Что это? Окончательный разрыв? Или очередной зигзаг, каприз, вызванный взвинченностью нервов и настроением минуты?
Этого Владимир Онуфриевич не знал, да и мысли его были направлены на другое. 800 франков в месяц! Взять их было неоткуда, а признаться в этом — совершенно невозможно. Когда-то отец Софы выручил его в трудный момент, и потом эти деньги были вычтены из ее наследства. А оставшиеся тридцать тысяч поглотили злосчастные питерские постройки... Конечно, то была их совместная ошибка. Но Владимир Онуфриевич полагал, что вся ответственность лежит на нем одном. Как же после этого написать жене, что он не может высылать ей жалкие 800 франков в месяц?..
Не получая никакого ответа, Софья Васильевна, списавшись с Александром Онуфриевичем, решилась отправить Фуфу с няней к нему в Виллафранку. Правда, в день их отъезда она получила телеграмму от мужа: «Будешь получать 800 франков. Дела хороши». Она заколебалась: стоит ли разлучаться с дочерью? Но в тот же день пришло письмо от Юли. По ее наблюдению, у Владимира Онуфриевича не было ни денег, ни сколько-нибудь определенных надежд; он просто храбрится, писала она, и храбрится «очень некрасивым образом».
...Оставшись одна, Софья Васильевна рассчитала кухарку, съехала с квартиры и сняла маленькую комнатушку за 55 франков в месяц. По утрам она отправлялась в молочную лавку и съедала чашку жидкого шоколада с хлебом — стоило это 5 франков. Потом работала дома до половины седьмого, делая лишь короткий перерыв, во время которого «завтракала хлебом и яблоками». Поздний обед обходился совсем дешево — 1 франк 25 сантимов.
Она переписывалась с Вейерштрассом, встречалась с французскими математиками. Работа ее быстро продвигалась вперед.
«Я полагаюсь на Вас просто, как на каменную гору, — писала она Александру Онуфриевичу, — и все мечтаю, как мы съедемся, когда у меня все устроится, будет какой-нибудь заработок и вообще определенное положение; теперь же, когда я в таком мрачном и озабоченном состоянии духа, мне, разумеется, всего лучше, когда я одна, или, по крайней мере, с людьми посторонними, которые ничего обо мне не знают».
Глава шестнадцатая
Последний год. Москва — Америка — Москва
1
В Москве Ковалевского обступила бездна разнообразных дел — все важные, срочные, необходимые.
«Ввиду прогула» он должен был уплотнить график университетских занятий и читал по 5 лекций в неделю. «Я крайне доволен своей жизнью в университете, — писал он брату в первом из посланных наконец из Москвы писем, — если бы не так много посторонних работ, то чувствовал бы себя как в раю».
Получая из-за границы от друзей-ученых большое количество окаменелостей и гипсовых слепков, Владимир Онуфриевич обращался в правление университета с просьбой выделить ему казенную мебель для хранения всех этих материалов. Но начальство на его просьбы не реагировало, и он на свои (то есть на занимаемые) деньги вынужден был оборудовать геологический музей.
«Я перетащил в свой кабинет диван, кресла, письменный стол и кое-какое хозяйство и пишу тебе за чаем уже в 12 ночи, — сообщал он брату. — Только теперь я вижу, как важно иметь свой геологический угол, где можно разложиться как следует. Я прихожу домой только спать, часто в 3 ночи и с утра 9 уже сижу в кабинете. Если бы было место, поставил бы несколько горшков с цветами, но все занято, хотя моя лично комната и большая довольно. Я увешал стены картами и завтракаю чаем с рябчиком, за которым посылаю в противоположную лавку. Юленька тоже собирается не ездить домой66, а приходить завтракать ко мне».
Однажды ломового извозчика, доставившего два больших шкафа к университетскому подъезду, увидел ректор и категорически запретил вносить шкафы, так что Владимиру Онуфриевичу пришлось отвезти их обратно. А когда он вернулся, ректор сделал ему строгий выговор и приказал в два дня удалить личные вещи из служебного помещения.
Владимир Онуфриевич знал, что во всех университетах России и Европы, в том числе и в Московском, многие профессора держат на кафедре свои материалы, необходимые для научной или преподавательской работы, и никого это не беспокоит. Он написал подробное объяснение в совет университета и просил вступиться за него. Конфликт был улажен, однако в душе Ковалевского осталось неприятное чувство, будто коллеги враждебно относятся к нему. Он, впрочем, не мог не сознавать, что слишком злоупотребляет вольностями, какие предоставлялись профессорам и доцентам. Никто из его сотоварищей не позволял себе настолько опаздывать к началу семестра, как он.
На отдельные лекции он тоже нередко опаздывал, и студентам подолгу приходилось его ждать. Однажды, торопливо войдя в аудиторию прямо в пальто и со шляпой под мышкой, он поднял над головой какой-то предмет, оказавшийся крылом убитой вороны, из-за которой он и задержался на улице. И тут же, взойдя на кафедру, «произнес блестящую импровизацию о развитии способности летать у позвоночных», как рассказал один из его учеников А.А.Борисяку. К сожалению, это единственное свидетельство о Ковалевском-лекторе.
Зато о «посторонних работах» Владимира Онуфриевича мы имеем немало его собственных свидетельств.
Он оформлял привилегии на изобретения — дело это еще не было доведено до конца, да так и осталось недоведенным67. Выполняя взятые на себя обязательства перед французским нефтяным обществом «Петроль», с которым вступил в неофициальный контакт, он писал представителям общества длинные письма, несколько раз ездил для встреч с ними в Петербург, убеждая их не начинать своего дела, а купить рагозинское, ибо вопрос о слиянии вовсе не был отклонен пайщиками, а лишь отсрочен до полного выяснения стоимости всего имущества.