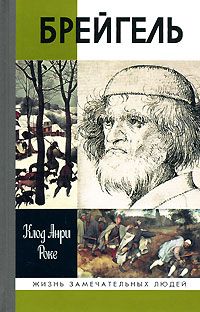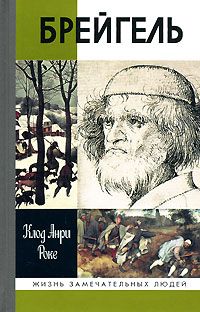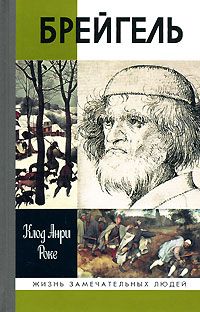Бюргерам, ремесленникам и простолюдинам запрещено «уезжать с места жительства, будь то в одиночку или с семьями, тайно или открыто, а также транспортировать куда бы то ни было, по воде или сухопутным путем, свое движимое имущество или товары — в противном случае их будут считать виновными или подозреваемыми в устроении беспорядков и преследовать по закону, а вышеозначенное движимое имущество, приготовленное для транспортировки, конфисковывать; лодочники или извозчики, которые не сообщат властям об обратившихся к ним потенциальных эмигрантах, будут считаться подозрительными лицами и подвергнутся наказанию, а их лодки, телеги и лошади будут конфискованы». Едва успели опубликовать этот ордонанс, как десять бюргеров из Турнэ были схвачены на дороге; их раздели и голыми отправили по домам. Нескольких жителей Антверпена подвергли порке за то, что они прятали у себя пакеты с товарами и одеждой, намереваясь переправить их в Англию. Para que cada uno piense que a la noche о a la manana se le puede caer la casa encima, — писал в Мадрид герцог Альба («Пусть каждый думает, что в любой момент — ночью или днем — крыша собственного дома может обрушиться ему на голову»). После террора люди тем более оценят всеобщую амнистию — но они получат ее не раньше, чем все попытки мятежа будут окончательно подавлены.
Отель Нассау грабили несколько недель. Долбили стены, разбивали лестницы, надеясь найти тайники с секретными бумагами или драгоценностями. Альба разыскивал для своего короля определенные картины, которые, как он знал, находились в собственности Вильгельма, — прежде всего «Сад наслаждений» Босха. Долго пытали Питера Кола, привратника дворца, — заставляя, во-первых, предать принца, подтвердив выдвигаемые против него обвинения, и, во-вторых, показать, где спрятаны сундуки с наиболее ценными вещами. Подозревали, что он закопал в парке лучшие столовые приборы. Он так и не проронил ни слова. В конце концов, солдаты, которые простукивали стены, обнаружили босховский триптих. Альба сам спустился, с факелом в руке, чтобы посмотреть на него — так смотрят на эксгумированный труп. Группа самых доверенных приближенных помогала наместнику в этой странной миссии: они должны были «арестовать» шедевр, вывезти за пределы Фландрии принадлежащее ей чудо. Картину отправили в Эскориал.
Эгмонт не уехал из страны. Неужели — после всего, что было, — он еще полагается на слово Альбы? Горн удалился в свой замок Веердт. Он не хочет появляться в Брюсселе, заполненном испанцами. Альба говорит его секретарю: «Я сожалею, что король не вознаградил должным образом вашего господина. Великие государи порой запаздывают с признанием заслуг своих подданных. Если бы мне представился случай увидеться с графом, я бы доказал, что желаю ему добра. Недоверие, с каким относятся ко мне сеньоры этой страны, глубоко ранит меня. Ведь я — друг и слуга их всех». Горн, наконец, сдается, надеясь получить должность вице-короля Неаполя. Он приезжает в Брюссель. Фернан де Толедо, родной сын Альбы и великий магистр ордена Святого Хуана, приглашает к себе его, а также Эгмонта, секретарей того и другого — Бакерзеела и Лалоо — и бургомистра Антверпена ван Стралена. Банкет, согласно планам хозяина дома, должен продолжаться весь день. Однако около трех часов пополудни герцог Альба присылает своих трубачей, чтобы они развлекли гостей сына, и записку, в которой просит обоих графов чуть позже пожаловать к нему, ибо он хочет проконсультироваться с ними относительно архитектурного проекта будущей цитадели Антверпена. Понял ли сын Альбы, какую роль уготовил ему отец? Почувствовал ли стыд, угрызения совести? Да, несомненно. Он, олицетворение испанской чести, не мог допустить того, что должно было произойти. И хотел избавить отца от подобного позора. Он наклоняется к Эгмонту, который, ничего не подозревая, подносит к губам бокал с маасским вином, и шепчет ему: «Сеньор граф, возьмите лучшего коня и бегите! Клянусь вам, что ваша жизнь в опасности». Эгмонт поднимается. В голове проносится воспоминание о том миге, когда рука Альбы легла на его плечо и они вместе пошли по испанскому лагерю, а солдаты осыпали его, Эгмонта, грязными оскорблениями; он вновь испытывает краткий прилив страха — как тогда. Он выходит в соседнюю комнату, чтобы обдумать услышанное и посоветоваться со своим другом Нуаркамом, который доставил записку. Но Нуаркама уже назначили будущим судьей Эгмонта: его, Нуаркама, час пробил — он мог спасти себя только такой ценой. Если граф сумеет бежать, что будет с ним самим? Ведь он обещал герцогу вынести Эгмонту смертный приговор. Поэтому Нуаркам только весело смеется и убеждает друга в нелепости его подозрений. Говорит, что совет Фернана де Толедо есть не более чем хитрость, попытка испытать благонадежность графа: бежать — значит показать свое недоверие к Альбе, стать его врагом. Нуаркам возвращается вместе с графом в обеденную залу и садится рядом с ним за празднично накрытый стол. Час спустя Эгмонт уже входит в кабинет герцога; инженер развернул на столе пергамент, на котором обозначен план замка. Эгмонт мысленно упрекает себя, что сомневался в честности Альбы. Потом Альба вдруг исчезает. Эгмонт тоже хочет покинуть комнату. Но в этот момент Санчо де Авила, комендант испанского лагеря, приближается к нему, сообщает, что он, Эгмонт, арестован, и отбирает оружие. Через несколько минут арестовывают и Горна. Обоих секретарей, которых Альба собирается заставить — под пытками — давать показания против их господ, задерживают в гостинице. Ван Стралена, вместе с Эгмонтом и Горном, отправляют в Гентскую крепость. Там всех троих содержат в одиночных камерах, обитых черной тканью и освещаемых лишь одной свечой. Они теряют счет дням заточения. Ни малейший шум не проникает через толстые стены их узилища. Сон их наполнен томительным ожиданием смерти. Просыпаясь, они видят стены своей будущей гробницы. Дважды в ночь, когда меняется караул, капитан с факелом в руке входит в камеры и заглядывает им в лица. Испания времен Альбы умела гениально организовывать деятельность полиции и театральные эффекты, пыточные процедуры и террор…
Процесс Горна и Эгмонта тянулся долго. Может быть, Альба надеялся, что в короле все-таки проснется великодушие? Их обвиняли в мятеже и предательстве. Атака Людовика Нассауского на испанские войска и его победа при Хейлигерлее ускорили вынесение приговора. Казнь назначена на 5 июня — воскресенье, Троицын день. Эшафот, обтянутый черным, воздвигнут на Большой площади Брюсселя. Огромное количество солдат, вооруженных пиками и аркебузами, заполняет площадь и прилегающие улицы. Эгмонту и Горну сообщили о дне их смерти только накануне. У них не было возможности попрощаться хоть с кем-то из близких. За всё утро никто ни разу не подошел к их дверям. Эгмонт требует, чтобы этому томительному ожиданию был, наконец, положен предел. И вот их ведут по улицам, а народ молчит или плачет. В лучах июньского солнца блестят фасады и крыши домов. Эгмонт бледен, но он не дрожит и не замедляет шагов. Надеется ли он на милость (точнее, справедливость) короля; на то, что вся эта чудовищная церемония окажется инсценировкой, испытанием их мужества? Или он понял — пусть поздно, — какому безумному и коварному животному хотел быть верным слугой? Эгмонт и сейчас не утратил самообладания, никогда не покидавшего его в минуты смертельной опасности. Он одет, как во дни больших праздников, в малиновый с узорами шелковый пурпуэн и черный плащ с золотым позументом, в шоссы из черной тафты и замшевые чулки цвета зеленоватой бронзы; его высокая шляпа, тоже из черной тафты, украшена черно-белым плюмажем; на груди сверкает орден Золотого руна. Он проходит между ротами солдат, выстроенными в боевом порядке, с развернутыми знаменами. Он приветствует всех капитанов и солдат, прощается с ними, и многие плачут. Наконец он видит эшафот и плаху, священника с крестом. Он сам подходит к палачу и становится на колени. Через несколько мгновений Горн, поднявшись на верхнюю ступеньку лестницы, замечает пятна крови на затянутых черным бархатом досках эшафота. Те, кто рядом, слышат его шепот: «Друг, это ты лежишь здесь?» Но его самого уже хватают сзади, подталкивают к плахе… На протяжении двух часов головы Эгмонта и Горна были выставлены в медных тазах для всеобщего обозрения. Тело Эгмонта передали для погребения в монастырь Святой Клары. Туда стекались толпы народа, люди целовали гроб и орошали его слезами. Ночью, по повелению герцога, головы казненных были помещены в ларцы из эбенового дерева и под охраной солдат отправлены в карете в Мадрид.