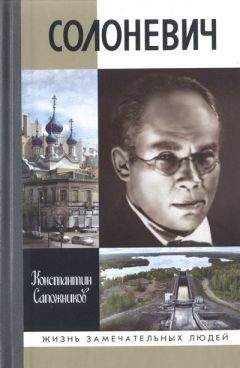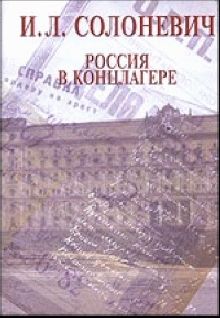— Вижу, вижу, что на-пару, — рассмеялся я, пожимая руку девушке. — Я уж тут, грешным делом, подглядывал, как это вы тут дрались…
Надя, одетая в старую, заплатанную жакетку, видимо, еще времен тюрьмы и этапов, чуть покраснела и, поправляя выбившиеся из-под платочка волосы, засмеялась.
— Да мы это так — дурили.
— И вроде, как Борис был положен на обе лопатки?
— Да ведь ты, конечно, сам знаешь, что между герлей и змеей подколодной, собственно, большой разницы-то и нет. У нее и патруль так звался…
— Ах, ты, негодный! — замахнулась на него Надя. — Вот я тебе…
Но мой тезка мигом спрятался за мою спину и шутливо высунул язык.
— Шалишь, Наденька, теперь не достанешь. Мы за дядей Бобом, как за стеной соловецкой.
— Ладно, ладно, ребята. Да воссияет мир в ваших сердцах. Чтобы вы не дрались, позвольте я вас разделю. Вы, Надя, берите меня под руку с этой стороны, а ты, побежденный, — с этой.
— Есть, капитан… А скажи, прежде всего, какими ветрами тебя сюда занесло?
— Ветры, по совести сказать, прямо с неба свалившиеся. Еду в Питер глаза лечить!
— Вот это здорово! Как же тебе это удалось?
— Это, братишка, длинная история. Тут все: и блат, и связи, и собственный напор, и счастье — все есть.
— А вы, дядя Боб, сейчас свободны?
— Как птичка небесная. Ехать мне только через несколько дней.
— Вечерок с нами проведете?
— Если угостите старого мрачного соловчанина своим смехом — с наслаждением.
— Ну, этого товара у нас миллионы тонн.
— Весной особенно — я вижу. А тебе, Борис, можно выкрутиться на вечер?
— Да я пробуду поверку и опять ходу дам. Я ведь в общежитии ответственных работников живу — вне Кемперпункта… Ребята вместо меня куклу на кровати сделают на случай обхода… Это все проработано. А тебе ничего поздно вернуться?
— Малахова помнишь?
— Комзвода? Капитана футбольной команды «Динамо»?
— Да. Ну, так он дежурный по пункту… Свой в доску и брюки в полоску.
— Так пойдемте ко мне? — сказала Надя.
— Как это к вам? Куда?
— Да ко мне, в комнатку. Я здесь комнатку снимаю у одного рыбака.
— Комнатку? Разве вы не в бараке заключенных живете?
Девушка с шуточным презрением выпятила нижнюю губку:
— Заключенных? Ах, что вы, Борис Лукьяныч? За кого вы меня принимаете? Вы имеете дело не с какой-нибудь лишенной всех прав заключенной, а с вольной гражданкой!
Я удивленно поглядел на Бориса.
— Верно, верно. Надя теперь вольная!
— Да, да, конечно, — вспомнил я. — Вы же только 2 года имели и, вероятно, уже срок-то закончили.
— Давно уже…
— Так почему же вы не уехали? Вам ведь верно «-6» дали?[33]
— Да. Но я не знаю еще, куда ехать. Вот, куда Борю пошлют!..
Я опять удивленно взглянул на нижегородца.
— Да, да, — опечаленным тоном сказал Борис. — Ничего, брат, не сделаешь — заболела Надя.
— Чем заболела? — не понял я шутки.
— Да вот, Boriscarditis'ом.
— Чем, чем?
— Да вот, тяжелым, воспалением сердечно-суставной сумки на почве ранение сердца bacillus boy-scouticus.
— Ах, ты, насмешник! — притворно разъярилась Надя и, бросившись к сугробу, стала скатывать снежок.
— Не буду. Ей Богу, не буду, Наденька, — стал Борис на колени. — Сам болен, мое золотко, сам болен. Не убивай меня. Дай пожить еще какую-нибудь сотенку лет…
— А будешь издеваться над бедной беззащитной девочкой? — сурово спросила Надя, стоя над нижегородцем с поднятых снежком.
— Вот, лопни мои глаза!.. Вот, ни в жисть! Вот, провалиться мне на этом самом месте…
— Ну, ладно, так уж и быть. На этот раз прощаю! — с видом милостивой королевы сказала Надя. Борис мигом вскочил и быстро чмокнул Надю в губы.
— Вот, и мудрый д'Артаньян говорил: «Всегда можно сладить с женщинами и дверьми, если действовать с ними нежно».
— Ах ты!.. — хотела опять протестовать Надя, но Борис уже говорил мне серьезно.
— Это мы, дядя Боб, так себе — дурачимся от полноты сердец: мы теперь жених и невеста…
Когда затихли поздравительные слова и ответы, я спросил:
— Так почему же вы все-таки не уехали?
— Да вот, что с ней сделаешь! Вбила себе в голову: вместе, да вместе ехать. Ну, хоть ты что хочешь!.. Бабья логика!.. Я ей сколько раз доказывал, что если она сейчас уедет, то к моменту моего освобождение она может деньгу подмолотить и потом приехать ко мне в ссылку… Так вот, нет — опять свое: «вместе да вместе»…
— Опять ты, Боря, решенные вопросы перерешать хочешь. Вот уж эти мне мужчины. Как-будто бы их логика только и есть на Божьем свете. А у нас — все бабьи капризы…
— Так почему же вы, в самом деле, остались?
— Ну, как же, Борис Лукьянович, — серьезно ответила девушка. — Вы ведь знаете, где мы находимся. Мало ли что может случиться — я все-таки здесь, под боком, и на положении почти вольного человека — могу помочь… А мало ли что может случиться — болезнь, тюрьма, какая-нибудь отправка. Ведь бывал же он на страшной этой Кемь-Ухте… А тогда еще хоть силы были… А теперь, после двух лет такой, вот, жизни… Каково мне будет там, в России, быть «вольной» и думать о его положении? Нет, уж я лучше подожду, а потом вместе поедем…
— Ну вот, что вы сделаете с таким женским упрямством? — отозвался Борис, но, несмотря на взятый им шутливый тон, нотка растроганности прозвучала в его голосе. — Видите сами… Безнадежно… Как окончила свой срок, так пошла к самому Эйхмансу (Начальник Управление СЛОН'а). Как она там к нему прорвалась — спросите у нее. Ведь недаром говорят — пьяным, да влюбленным судьба ворожит. А тот в хорошем подвыпившем настроении был — растрогался, разрешил на общих основаниях остаться, даже еще паек выписал… Ах, ты, чудачечка моя милая!..
— Почему же чудачечка?
— Да вот — целый год потеряешь!
— Много ты понимаешь! — тихо ответила девушка. — Да ведь этот год, Бог даст, мы будем вместе…
Ленинградские профессора решили, что болезнь моих глаз неизлечима и что возвращение в климат и условие жизни в Соловках грозит мне слепотой[34]. Этот медицинский акт был направлен в Москву, а я переведен из больницы в тюрьму (раз неизлечим — так чего же держать в больнице?).
Очень трудно было рассчитывать, что московское ГПУ примет во внимание угрозу слепоты и не пошлет меня обратно в Соловки. В многочисленных лагерях ОГПУ погибали тысячи и тысячи тяжело больных, особенно туберкулезных, и я не мог рассчитывать на благоприятный исход. Мои родные в Москве, как говорят, «нажали все кнопки», и мне в ожидании ответа из Москвы пришлось провести несколько томительных месяцев в общей камере Ленинградского ДПЗ (Дома Предварительного Заключения).