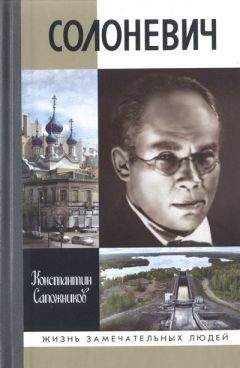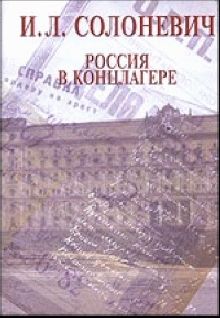Столетний узник
«Боль жизни сильнее интереса к жизни. Вот поэтому религия всегда будет побеждать философию.»
В. Розанов
В нашей тюремной камере — 18 «штатных» мест: 18 железных привинченных к стенам коек. Теперь эти койки стоят вертикально, словно ржавые, погнутые обломки старого забора. Эти койки уже много лет не опускались на пол, ибо советский «жилкризис» не выпускает из своих лап и тюрьмы, и население этих тюрем спит по иному, не на койках, этих «пережитках проклятого буржуазного прошлого»…
Только что прошла вечерняя поверка, и в строю у нас оказалось 57 человек… «Перевыполнение социалистического плана», что и говорить…
После поверки мы дожевывали корочки хлеба — остатки фунтового пайка — и стали готовиться ко сну. Дежурные внесли из коридора два десятка деревянных щитов и разложили их рядышком на полу. На этих щитах, соблюдая нехитрые арестантские правила общежития, стало размещаться все пестрое, разноплеменное население нашей камеры. На этом «Ноевом ковчеге» для всех места не хватило, и человек 15 (из числа прибывших последними) стали заботливо расстилать на холодном цементном полу свои пиджаки и куртки, устраивая себе ночное логово по образцу диких зверей.
Кого только нет в числе моих товарищей по камере! Старики и подростки, крестьяне и рабочие, несколько студентов, седой профессор, несколько истощенных интеллигентных лиц, люди с военной выправкой, измученный старый еврей, кучка шумливых беспризорников, для которых тюрьма и улица — их привычное местопребывание… И всех нас спаяло положение узника советской тюрьмы, звание «классового врага и социально-опасного элемента» и трагическая перспектива многих лет каторжного труда в концентрационных лагерях.
Постепенно шум стал стихать. Каждый как-то нашел себе место, и вскрики и ругань все реже перекатывались над серой массой лежащих людей. Сон — единственная радость узника — стал понемногу овладевать голодными и измученными людьми.
Поудобнее приладив в виде подушки свою спинную сумку и накрывшись курткой, я сам стал дремать, когда внезапно в тишине коридора раздались шаги нескольких людей. Еще десяток секунд и шаги остановились у дверей нашей камеры. С противным лязгом звякнул замок и двое надзирателей ввели в двери высокого человека с длинной седой бородой.
Старик этот ступал как-то неуверенно, и было странно видеть, как наши, обычно грубые, сторожа бережно поддерживали его под руки. В полумраке камеры, освещенной только одной тусклой лампочкой в потолке, можно было с трудом различить бледное лицо старика, обращенное прямо вперед, словно он не смотрел на лежавших перед ним людей.
— Эй, кто у вас тут староста? — спросил один из надзирателей.
Я вышел вперед.
— На, вот, принимай-ка старика. — В грубом, резком голосе надзирателя слышалась какая-то странная сдержанность, словно он чувствовал себя неловко.
— Устрой его тута как-нибудь получше… Ежели что нужно будет — позови кого из наших… Для такого случая…
Он запнулся и, просовывая мою руку под руку старика, сурово, как бы стыдясь мягких ноток голоса, добавил:
— Ну, держи, чего там…
Я удивленно взял протянутую руку, и старик тяжело оперся на нее. Опять звякнул замок камеры, и мы остались одни с новым товарищем по несчастью. Затем старик медленно повернул голову ко мне, и только тогда я увидел, что он слеп…
По неуверенным движениям старика и, вероятно, по направлению моего взгляда и выражению лица и все остальные заключенные заметили это, и гудевшая тихими разговорами камера как-то сразу смолкла, волна ветра задула всякий шум…
Несколько секунд все молчали. Потом старик медленно поклонился в пояс и тихо, но внятно сказал:
— Мир дому сему…
Это старинное полуцерковное приветствие, обращенное к нам, узникам, оторванным от настоящего дома и семьи, показалось настолько странным, что никто не нашелся сразу, что ответить. Всем нам казалось, что появление этого старика — какой-то сон.
Что-то непередаваемо благостное было в выражении его спокойного, обрамленного седой бородой лица, и мне в первые секунды показалось, что передо мной какой-то угодник Божий, каких когда-то, еще мальчиком, я видел на старинных иконах. И теперь казалось, что этот угодник чудом перенесен в нашу камеру, и что наша тоскливая тюремная жизнь прорезана каким-то лучом сказочной легенды…
Но эти несколько секунд растерянности прошли. Живой старик тяжело опирался на мою руку и молчал. Жизнь требовала своего…
— Спасибо, дедушка, — несколько опомнившись, невпопад отвечал я. — Пойдемте, я вас как-нибудь устрою на ночь.
Осторожно проведя старика между лежавшими людьми, я привел его в свой угол. Там, рядом со мной лежал и теперь сладко спал Петька-Шкет, молодой вор, паренек, никогда не знавший дома и семьи, отчаянная башка, драчун и хулиган, в вечерние часы рассказывавший мне всякие случаи своей беспризорной жизни.
— Слушай, Петька, потеснись-ка малость! — толкнул я парнишку. — Тут, вот, старика привели. Нужно место дать…
Заспанное лицо Петьки недовольно поморщилось. Не открывая глаз, он раздраженно заворчал:
— К чертовой матери… Пущай под парашей ложится… Я не обязан…
Сосед сердито толкнул его кулаком в бок:
— Да ты посмотри, хрен собачий, кого привели-то!
Петька приподнялся с явным намерением испустить поток ругательств, но слова замерли у него на языке. Он увидел перед собой высокую, величавую фигуру старика, и остатки сна мигом слетели с него. Он удивленно вытаращил глаза и выразительно свистнул.
— Ого-го-го!.. Вот это — да!..
И, не прибавив больше ни слова, паренек молча свернул свой рваный пиджак и уступил место «товарищу». Я помог старику опуститься на щит и положить под голову маленькую котомку. Устроившись немного поудобнее, мой новый сосед перекрестился и неторопливо сказал:
— Ну вот, Бог даст, и отдохну несколько деньков… А то два месяца, как все везут и везут…
— А откуда вас, дедушка, везут-то? — несмело спросил кто-то из лежавших.
— Да издалека, сынок, издалека. С Афона… С Нового Афона, святого монастыря Божьего…
— А за что это вас?
— Не знаю, сынок. По правде сказать, сам не знаю, — спокойно и мягко ответил старик. — Мне не сказали. Прямо со скита взяли. Я там схимником, монахом в горах жил. Монастырь-то самый давно уже забрали, но меня, вот, пока не трогали… Разве-ж я кому мешаю?..
Старик говорил медленно, и к мягкому звуку его голоса с затаенным дыханием прислушивалась вся камера. Каким-то миром веяло от слов старика, хотя эти простые слова были полны трагического смысла. Но в его голосе чувствовалась какая-то примиренность с жизнью, какое-то глубокое душевное спокойствие, умиротворяюще действовавшее на всех нас, напряженных и озлобленных.