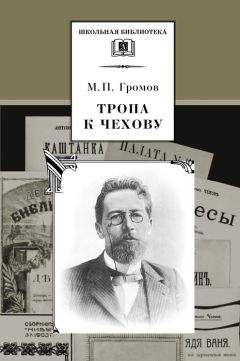Щепкин сказал: «Нет маленьких ролей – есть маленькие актеры». Чехов с полным правом мог бы сказать: «Нет маленьких явлений – есть маленькие писатели». Для него ни одно явление жизни не было маленьким: все было достойно наблюдения. Как говорится в гетевском «Фаусте», он «выхватывал из самой гущи жизни – и где бы ни схватил – там было интересно». Сквозь это маленькое явление он видел очень далеко и очень глубоко. Как сквозь маленькое стекло можно увидеть огромную панораму, так сквозь каждое маленькое явление мы видим у Чехова целый огромный кусок жизни. Чехова смущали малые размеры его вещей, он все собирался писать «большой роман» и уверял, улыбаясь одними глазами, что «завидует Потапенке» (писателю средней руки, но необыкновенно плодовитому). Однако его маленькие рассказы стоят других многотомных произведений. Взять хотя бы «Даму с собачкой» – Тургеневу, например, хватило бы этой темы на целый роман. Чехов уложил ее в несколько десятков страниц, но из этих страниц ясно видна и чувствуется не только личная драма двух или трех людей, но весь быт тогдашнего «интеллигентного» общества, задыхавшегося под толщей предрассудков, ложных понятий о приличии и т. д., которые часто губили жизни и души людей. А другие его рассказы – иногда на несколько страничек… Какая в них страстная жалость и любовь к своим героям – именно любовь, о которой он «не говорил вслух» и которую близорукие критики принимали за «объективность, доходящую до индифферентизма»… Стоит наудачу вспомнить: рассказ «В ссылке», рассказ «Хористка», рассказ «Ванька», рассказ «Архиерей»… Один татарин из рассказа «В ссылке» стоит целого романа. Трагедия «Хористки» – обвинение, брошенное обществу за отношение к «падшим женщинам»; трагедия «Ваньки» – не меньше диккенсовского романа вопиющая о судьбе брошенных в мастеровщину ребятишек; трагедия «Архиерея» – беспощадное одиночество человека, имеющего дело с толпами… Я назвала несколько, можно привести еще много – все это рассказы, написанные кровью сердца…
Есть одно свойство у Чехова, которое дает нам право считать его великим писателем. Мы читаем его всегда по-новому, и в его рассказах, перечитываемых из года в год, всегда находим для себя что-то новое, что-то, чего мы раньше не заметили и до чего мы «доросли». Мне недавно, например, пришлось пережить такую минуту с «Чайкой». В первую постановку «Чайки», да и в последующие ее постановки на русской сцене, установилась традиция играть Нину в последнем акте в состоянии такой истерики, такого почти безумия, что у зрителя не оставалось ни минуты сомнения в ее близкой и неизбежной гибели – в пруду, под поездом, но непременно гибели. И вот недавно я слышала монолог «Чайки» в исполнении А. Коонен в Камерном театре, «в сукнах», и вдруг поняла, что Нина не погибнет, не может погибнуть. Из самого текста чеховского поняла это. Она «верует в свое искусство, она научилась терпеть» – и крестный путь страдания, конечно, приведет ее к тому, что, как она и обещает, она будет артисткой. Мы как-то упускали из виду, что ведь с той минуты, как Нина ушла из отцовского дома, неопытной девочкой, прошло всего два года – и каких два года для нее: она была брошена любимым человеком, она потеряла ребенка – мудрено ли, что она не успела сделаться актрисой, но она «талантливо вскрикивала, талантливо умирала» и, конечно, она будет талантливо жить на сцене!
Пафос и романтизм Чехов признавал и отдавался их очарованию только в музыке. Тут границ и запретов не было. Он возил меня к соседям по имению, родственникам поэта Фета, только затем, чтобы послушать Бетховена: хозяйка дома превосходно играла. И когда он слушал «Лунную сонату», лицо его было серьезно и прекрасно. Он любил Чайковского, любил некоторые романсы Глинки, например, «Не искушай меня без нужды», – и очень любил писать, когда за стеной играли или пели. «Серенада» Брага, которую пела Лика под аккомпанемент рояля и скрипки, нашла отражение в его «Черном монахе»… (А. П. Чехов в воспоминаниях современников. 1986. С. 254, 256).
Письмо А. П. Чехову
Уважаемый Антон Павлович,
я оттого до сих пор не отвечала вам, что ваше письмо пришло в Москву, когда я была в Ясной Поляне, и мой отец мне его не переслал, а сам исполнил ваше поручение, пославши г-ну Чумикову для перевода свою статью «Об искусстве» в полном виде, без цензурных вымарок.
Мне очень жаль, что вы не пишете мне о вашем здоровье. Судя по вашим работам – надо думать, что вы в полном обладании всех ваших сил. Ваша «Душечка» прелесть! Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи. У меня стол был набит номерами «Семьи», и я насилу сохранила себе один экземпляр. Меня всегда удивляет, когда мужчины-писатели так хорошо знают женскую душу. Я не могу себе представить, чтобы я могла написать что-либо о мужчине, что похоже было бы на действительность. А в «Душечке» я так узнаю себя, что даже стыдно. Но все-таки не так стыдно, как было стыдно узнать себя в «Ариадне». Папа прочел нам также рассказы в сборнике Белинского, которые тоже очень ему понравились, так же как и всем нам. Особенно хорош «Керосин». Ну, а вот вам ложка дегтю: видела «Чайку», которая имела тут огромный успех, и она все-таки не вошла в число моих любимиц. Простите, что все это пишу вам – вам, наверное, это совсем все равно. Но меня так близко трогает всякое ваше произведение, что я не удержалась от того, чтобы вам об этом не написать.
До свиданья. Будьте здоровы.
Толстая
30 марта 99 Москва
Из дневников и писем
Я читаю хорошенькие вещицы Чехова. Он любит детей и женщин, но этого мало…
Способность любить до художественного прозрения, но пока незачем…
Какая хорошая вещь Чехова «Палата № 6» (24 дек. 1892 г.).
Чехов был у нас, и он понравился мне. Он очень даровит, и сердце у него, должно быть, доброе, но до сих пор нет у него своей определенной точки зрения (4 сент. 1895 г.).
Как хорош рассказ Чехова в «Жизни» <«В овраге»>. Я был очень рад ему (9 февр. 1900 г.).
Ездил смотреть «Дядю Ваню» и возмутился. Захотел написать драму «Труп», набросал конспект (16 янв. 1900 г.).
Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющий и ругатель. Я в первый раз ясно понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Хаджи-Мурате и Марье Дмитриевне (7 мая 1901 г.).
Разговаривая о Чехове с Лазаревским, уяснил себе то, что он, как Пушкин, двинул вперед форму. И это большая заслуга. Содержания же, как у Пушкина, нет (3 сент. 1901 г.) (Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 66. С. 288; Т. 68. С. 158; Т. 72. С. 303; Т. 54. С. 10, 97, 191).