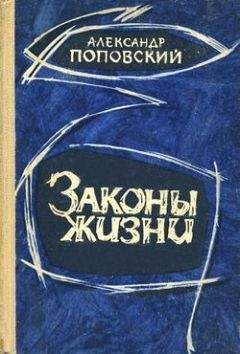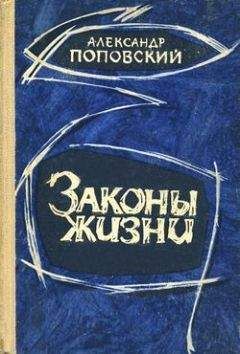Пшоник виновато взглянул на ученого и не без волнения произнес:
— Я не предъявляю претензии к науке, это не так. Меня привела сюда необходимость, и мне ничего другого не остается, как просить вашего разрешения остаться у вас.
— Пожалуйста, — любезно предложил Быков, — я вам не помеха.
Молодой человек немного помолчал и с грустью в голосе сказал:
— Я думал, что вы поможете мне.
— Вряд ли, — последовал сочувственный ответ.
— Почему? Разве это так трудно?
— Да, нелегко. В науке все легкое уже сделано, впереди самое трудное. Нас с вами, молодой человек, интересуют разные вещи. Вам, психологу, объясни, как рождаются чувства, а меня занимают лишь их проявления и взаимосвязь. Далеко еще нам до того, чтобы как следует уразуметь законы воспитания.
Педагог был крайне огорчен, и голос его, вначале уверенный и звучный, упал до полушепота:
— Вы напрасно разочаровываете меня. Я нуждаюсь сейчас в поддержке, и вы не должны мне отказывать в ней.
— Отказывать? — удивился ученый. — Никто не намерен вас разубеждать! Приступайте к работе, а там видно будет.
Какой фантазер! И придет же человеку в голову этакий вздор! Зачем бы он стал его расхолаживать? Мало ли каких взглядов держатся его ученики и думают и работают каждый на свой лад.
— Займитесь собачкой, выведите у нее проток слюнной железы и выработайте временные связи. Поможете нам осмыслить психологию — скажем спасибо и руку пожмем.
Вскоре ученый и его новый помощник встретились снова.
— Как ваши дела? — спросил Быков.
— Неважно, — ответил тот. — Моя собака не образует временных связей.
— Где же вы откопали такое диковинное животное? Покажите мне его.
— Собачка неважная, — пожаловался молодой физиолог, — склонна к аффектам, эмоциональна, психически неуравновешенна…
— Остановитесь, пожалуйста, — перебил его ученый. — Что вы сыплете психологическими терминами? Какая-нибудь шавка, а вы такое приписываете ей, что об ином человеке этого не скажешь. Учитесь у Павлова, он не философствовал.
Тут Пшоник неожиданно ударился в амбицию.
— Я с вами не согласен, — заявил он. — Павлов был философом-материалистом, смелым в своих решениях ученым.
— И философом и смелым, но не любил терминологии, взятой из арсенала психологов… Запомните, пожалуйста, и это… Что же с вашей собачкой?
— Не пойму, Константин Михайлович. Звонок приводит ее в бешенство, она лает, скулит, рвется из станка…
Ученый задумался и сказал:
— Выясните ее происхождение: где она жила, как вела себя дома. Вот уж где не грех вам вспомнить свою педагогику.
Совет пригодился молодому физиологу. Собака оказалась приученной хозяином откликаться на звонок лаем. Когда условным раздражителем вместо колокольчика сделали метроном, временные связи стали вырабатываться.
Год провел Пшоник у собачьего станка, с горечью убеждаясь, что лабораторные занятия не приблизили его к решению тех вопросов, ради которых он прибыл сюда. Давно сданы испытания, изучена техника физиологического опыта, ну, а дальше как быть?
Аспиранту все более становилось не по себе. Его потянуло к прежним занятиям, в школу, к ученикам, вспомнилась психология, которую он с такой любовью преподавал, пришли на память лекции, задушевные беседы в школьной семье. С тех пор прошли годы, а как невелики его успехи! В одну из таких трудных минут Пшоник принял решение. Он обратился в райком с просьбой дать ему возможность читать лекции по психологии.
— Так ли у вас много времени? — спросили его.
Нет, времени у него в обрез. Но сейчас, ему кажется, он психологию читал бы по-другому. Прочитал бы курс — и излечился от нее навсегда. Да, дело за аудиторией.
Быков пригляделся к ассистенту и сделал первое открытие. Спокойный и ровный, как символ терпения, с выдержкой, не знающей границ, помощник совмещал в себе великодушие учителя с покорностью ученика.
— Вас, кажется, интересует, — заметил ученый, — область мысли и знания?
— Да, меня занимает все, что определяет душевный мир.
— Всего лишь? И ничего больше?
Настойчивость Пшоника начинала ему нравиться.
— А как бы отнеслись к задаче из области чувств?
— Я не вижу тут границ, — осторожно заметил Пшоник.
— Не видите? — переспросил физиолог. — Границы равнобедренного и разностороннего треугольников, разумеется, более определенны, чем границы мысли и чувства.
Аспирант поспешил исправить положение:
— Я охотно займусь сферой чувств.
— В таком случае, исследуйте влияние холода и тепла на кровеносные сосуды.
— Влияние холода и тепла на кровеносные сосуды? Так ли уж это интересно?
— Результаты опытов, — продолжал Быков, — пригодятся вам для исследования чувствительности кожи.
Чувствительность кожи? Разве о ней не все сказано? Ученый не на шутку его удивил.
Философское спокойствие помощника настроило профессора на морализующий лад.
— «Во всякой науке, — процитировал он ему Гарвея, — нужны прилежные наблюдения и советы собственных чувств. Мы не должны полагаться на чужой опыт, у нас должен быть свой, без которого нельзя стать достойным учеником естествознания…» И еще говорил Гарвей: «Не предвзятое мнение, а свидетельство чувств, не брожение ума, а наблюдение должно убеждать нас в истинности или в ложности учения».
Свидетельство Гарвея не оказало на Пшоника должного впечатления. Он твердо стоял на своем.
— То, что написано о кожной чувствительности, кажется мне бесспорным. Я не вижу основания не доверять опыту других.
Быков сделал второе, не менее интересное открытие: педагог свято чтит авторитет книжной истины, чтит его выше научного факта.
— Что же вам кажется бесспорным в учении о кожной чувствительности? — спросил несколько озадаченный Быков.
— Я решительно считаю, — уже не смущался ассистент, — что холод, тепло, давление и боль воспринимаются каждое различным прибором. Мельчайшие точки, приспособленные для приема этих раздражений, рассеяны всюду в коже.
— Вы, однако, неплохо знаете предмет, — добродушно заметил ученый. — И вы уверены, что точка, предназначенная давать ощущение холода, не откликнется болью, если стегнуть ее электрическим током?
— Ни в коем случае. Любое раздражение вызовет у нее присущий именно ей стереотипный ответ. Мы знаем, где эти точки находятся, сколько их в коже на каждом квадратном сантиметре: болевых не больше ста, холодных — тринадцать, тепловых — до двух… Всего: первых — девятьсот тысяч, вторых — четверть миллиона, третьих — тридцать тысяч, а точек давления — полмиллиона.