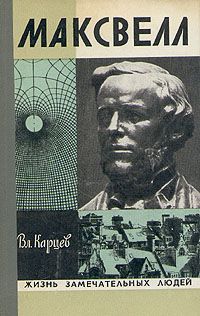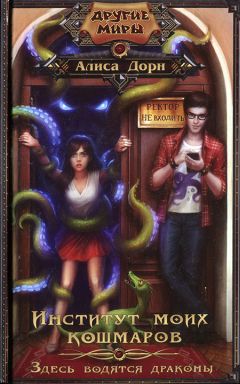В деревне Максвелл много думал о быстротечности жизни... Может быть, теперь его стали привлекать идеи его друзей, прекрасных людей, но слабых философов — Питера Тэта и Бальфура Стюарта? Они недавно выпустили книгу «Невидимая вселенная», где пытались, как они выразились, «опрокинуть материализм чисто научными методами».
Автором книги значился некий Вест, но Максвелл мгновенно разгадал нехитрый псевдоним: West-we, Stewart, Tait49, и оказался прав.
Максвелл весьма насмешливо отнесся к основным идеям книги — о наличии четвертого измерения, в котором люди якобы имеют возможность «эфирной» фазы существования, длительность которой бесконечна, измерения, связанного неким «двойным узлом» с действительным миром...
Он написал авторам «Парадоксальную оду» в стиле Шелли, где юмористически разъяснял непосвященным идеи «Невидимой вселенной»:
Мой дух пленен в двойном узле
Умом, в Невидимом живущим,
И твой, как каторжник в тюрьме,
Повязан им узлом прочнющим...
От пут тех есть освобожденье.
Оно — в четвертом измеренье...
Может быть, теперь, в плену тяжелой болезни, Максвелл стал серьезней относиться к философским построениям своих приятелей?
Нет! И за два месяца до смерти Максвелл не потерял своего шуточного настроя по отношению к идеям своих друзей. Он пишет Тэту письмо с пародией на его книгу в виде монолога ее автора:
«Монолог Т'
Размышляя, что я по обыкновению делаю в воскресный день, об увеселениях и занятиях, которые могли бы помочь мне скоротать одну-две предстоящих мне вечных эфирных фазы существования, я вдруг мучительно озаботился, в сущности, конечным числом человеческих ощущений, определяемым конечным числом нервов... Когда все возможные ощущения прозвенят в трехголосом мажорном перезвоне опыта, не будет ли невыносимым многократное повторение того же перезвона в течение чудовищных (по продолжительности) вечностей парадоксального существования? Ужас подобного рода, как я хорошо знаю, привел покойного Дж.С.Милля к самым вершинам безысходности, пока он не открыл лекарство от своих скорбей в перечитывании поэм Водсворта... Но не к Водсворту обратился мой ум, а к благородному виконту по имени...
АЛБАН50
Не заронит ли он какую-нибудь плодотворную идею, какое-то эпохальное предположение, посредством которого я мог бы сломать раковину обстоятельств и сам высидеть нечто, чему мы не имеем даже имени, что могло бы практически опровергнуть арифметику этого мира?
Торопливо перевернув страницу, на которой я записал эти раздумья, я заметил прямо против имени виконта другое имя, которого я не писал. Вот оно:
НАБЛА.
Вот что было знамением, данным самим виконтом, вот что, по его мысли, было выходом из моих трудностей. Но что мог означать этот символ? Я слышал, что арфа, из которой Хеман или Ефан извлекали самые различные модуляции, от печальных до триумфальных, те модуляции, которые современная музыка с ее оковами тональности может не признавать, но с которой никогда не сравняется, — я слышал, что эта арфа называлась именем, подобным этому. Но не найти во всем Уэльсе такой арфы и волшебной музыки, которая смогла бы пробиться сквозь толщу бесконечных веков...»
В конце этого письма — единственная фраза, относящаяся уже к самому автору воображаемого монолога Тэта — Максвеллу:
«Я был такой дохлый, что не мог читать ничего мало-мальски глубокого, чтобы сразу не заснуть над книгой».
Тэт, получив письмо, испугался — не поврежден ли болезнью мозг Максвелла? (Он не чувствовал еще, насколько близка развязка.)
Особенно Питер обеспокоился, когда узнал о том, что на соседнюю кафедру — кафедру математики Эдинбургского университета (сам он заведовал кафедрой натуральной философии, на которой когда-то работал Форбс и на которую когда-то пришел, победив Максвелла на конкурсе) — Максвелл дал рекомендации сразу двум кандидатам — своим ученикам: Христалу и Гарнетту. А дело, видимо, было так: сначала была дана рекомендация Христалу, а после визита Гарнеттов в Гленлейр, тронутый заботой Гарнетта, Максвелл уступил его просьбе дать рекомендацию или предложил сам написать ее. Он любил их обоих...
Как только Гарнетты уехали, к Максвеллу был вызван врач из Эдинбурга, коллега по обучению в Эдинбургском университете и старый приятель профессор Сэндерс, — у Максвелла начались приступы дикой боли, появилась водянка, силы быстро таяли.
В соседней комнате был созван консилиум — доктор Сэндерс и два местных врача — Лоррейны.
«Миссис Максвелл — миссис Стокс
Гленлейр, 2 октября 1879
Моя дорогая миссис Стокс!
У нас были вчера три доктора, и все они сошлись в одном — в том, что м-р Максвелл должен сразу же ехать к д-ру Пагету, который прославился как специалист в той болезни, от которой, как они считают, м-р Максвелл страдает. Мне очень понравился доктор Сэндерс. Мы надеемся отправиться сегодня, как только сможем устроиться в вагон для инвалидов, с тем чтобы добраться прямо до Кембриджа, нигде не останавливаясь».
В конце письма приписано рукой Максвелла:
«...Я чувствую себя сегодня немного бодрее...»
В этот же день, вскоре после того, как он сделал к письму эту приписку, в комнату, где он лежал, вошел старый приятель Сэндерс. Максвелл попытался улыбнуться.
Но Сэндерс не ответил на улыбку. Не смотря в глаза Максвеллу, он сел рядом, взял его бледную, невесомую уже руку.
— Мужайся, Джемси, — сказал он. — У тебя рак... Осталось тебе жить не больше месяца...
Максвелл мужественно перенес удар. С этого момента он, казалось, беспокоился только об одном: о здоровье Кетрин. Он старался завершить, привести в порядок все свои дела, окончить начатую популярную книгу «Электричество в элементарном изложении». Ничто не прорывалось наружу, и лишь в одной фразе письма, отправленного назавтра, 3 октября, доктору Пагету с последней надеждой, чувствуется обреченность: «Я сейчас совсем беспомощен», и даже эта фраза относилась не к его личному состоянию, а к тому факту, что он не может уже, как прежде, помогать больной Кетрин.
Вечером 2 октября было окончательно решено возвратиться в Кембридж. Среди аргументов была и перемена места, и более внимательный уход доктора Пагета — ведь ближайший врач Ричард Лоррейн жил в семи милях от Гленлейра. И видимо, просто хотелось быть в эти дни в Кембридже, неотделимой частью которого он стал.
Необходимо было только организовать так, чтобы кто-то их проводил до Кембриджа и встретил там. Быть провожатым вызвался Ричард Лоррейн.