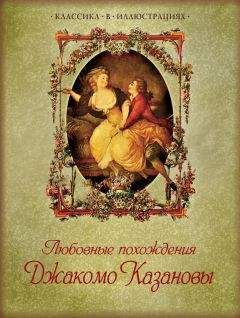В афишном удушье бессмысленно юны
Лесные перуны басовых ключей,
И пляшет на кафелях ломаный свет
Под смешанный запах дождя и камелий,
Резины горелой, порубленных елей,
Дерьма и Диора, блядей и газет…
А там минотавра железная выя
Нам в души гудит, как в пустое ведро,
А люди всё мимо спешат, как живые,
А скрипка вопит в переходах метро
О тех, кто засунут в летящий без цели
Скрежещущий поезд, кружащийся век,
Которым не метры, а сотни парсек
До каждой мелькающей лампы в тоннеле…
А скрипка вопит в переходах метро.
Не струны так рвут — парашютные стропы,
Так болью в подполье, в пещеру циклопа,
Вываливается живое нутро.
Не струны так рвут, а рубаху враспах,
Не жилка смычковая — нож гильотины!
Так лопаются при пожаре картины,
Так сам над собой измывается страх…
Но — прёт минотавр. Состраданье — старо.
Рубильники ржавы. Вагоны — по кругу.
В подполье Европы — железную фугу!
А скрипка царапает своды метро…
Париж, 20 декабря 1977.
В начале восьмидесятых годов З. А. Шаховская ушла на пенсию, и главным редактором «Русской мысли» стала Ирина Иловайская-Альберти. Газета при ней стала, может быть, несколько лучше из-за того, что Иловайская не считалась со старыми эмигрантами, которых, к тому же, немного осталось, и не печатала бесконечных воспоминаний «о блинах у государя императора». Но вот работать с Иловайской было много труднее, чем с Шаховской. Дело в том, что у Иловайской возник институт любимчиков, которые, вполне в соответствии с законами жанра, все становились ей рано или поздно ненавистны.
Мне, впрочем, довольно много лет удавалось сохранять с ней вполне корректные отношения без особой взаимной симпатии…
В самом начале восьмидесятых в Париже появился Володя Аллой, которого за сугубую религиозность обласкал Никита Струве. Струве взял жену Аллоя Раду на работу в книжный магазин «Les Editeurs reunis» при издательстве «Имка», а самого Аллоя — назначил редактором в издательство.
По наколке нового редактора для издательства была куплена наборная машина с памятью: «ИБМ-компокарта», в то, ещё практически бескомпьютерное время — последнее слово наборной техники. На этой машине можно было не только менять шрифты, заменяя один «шарик» другим (эта возможность была и у меня дома, на моей обычной пишущей машинке того же «ИБМ»), но и автоматически равнять правое поле. В результате, набор прозы становился возможным и выглядел не хуже «типографского». Но главное — память: набрав текст, можно было исправить ошибки, а потом, нажав одну кнопку, получить на бумаге страницу чистого текста, не тронув больше ни одной клавиши. Сейчас, в компьютерное время, смешно описывать это чудо техники, но тогда никто бы не подумал, что у этих машин нет будущего, потому что грядут компьютеры.
Аллой фактически работал не только редактором, но и наборщиком. Работоспособность у этого танкообразного парня была фантастической, и поначалу всем очень нравилось с ним работать. Но проходило время, и он начинал зарываться, своевольничать и хамить, да так, что все только и мечтали от него избавиться…
Никита Струве при активнейшей помощи Аллоя и под давлением Солженицына, избавился от действительно мешавшего любой работе директора «Имки», непроходимо глупого и упрямого Морозова. История вышла ужасная — Морозов повесился, невзирая на свою истовую церковность! Струве сначала назначил было директором Аллоя, но тот вскоре так зарвался, что Струве сам же его выгнал.
Тогда Иловайская взяла Аллоя заниматься изданием книг при «Русской мысли». Поначалу тоже не могла нахвалиться, какой Володя быстрый, исполнительный, деловой. Но когда Володя, ни с кем не советуясь, закатил колоссальные тиражи каких-то ненужных книг, а нужные издал в количестве меньшем, чем надо было, кажется, даже для одного только эмигрантского рынка, Ирина Алексеевна его тоже по своему обычаю выгнала.
В период аллоевского «фаворитства» или, как в екатерининские времена говорилось, «пока он в случае был», мы с Аллоем сделали одно хорошее дело. Дело в том, что «Русская мысль» несколько лет издавала и книги под маркой издательства «Presse libre» и редактором этих изданий был В.Аллой.
Жил в Париже в довоенное и послевоенное время поэт Юрий Одарченко. В эмигрантских кругах он считался «ужасным», и многие от его имени «бежали без оглядки». Общался он мало с кем, выпустил после войны книжку «Денёк», в которой предстал перед читателем почти что обериутом, да ещё и трагически страшным. Только вот, по свидетельству людей его хорошо знавших, об обериутах он никогда ничего не слышал. А был всё же обериутом с явным оттенком потоусторонней жути.
У Бодлера «цветы зла», у Одарченко «корень зла».
Этот изгой в среде довоенного, да и послевоенного «Русского Монпарнаса», был человеком, о котором «говорить было страшновато и неприлично», по словам злого и сусального критика, вождя так называемой «парижской ноты» Георгия Адамовича.
В «Русской мысли» в семидесятые годы работал близкий друг Одарченко Кирилл Померанцев. Он рассказывал, что чертей Одарченко с рукава сдувал на полном серьёзе…
То, от чего хочется отмахнуться, делая вид, что «этого не бывает», ведь, ох как неприятно увидеть потёмки в собственной душе, в стихах Одарченко названо и нарисовано. Его короткие стихотворения — о подполье души. И всюду зловещий смех.
Стоит на улице бедняк,
И это очень стыдно
Я подаю ему пятак, И это тоже стыдно.
Я плюнул в шапку бедняку
А денежки растратил, Ужасно стыдно бедняку, А мне — с какой же стати?
Или:
В Аптеке продаётся вата,
Пенициллин и аспирин.
В аптеку входит бесноватый
И покупает апельсин.
Короче говоря,«Я расставлю слова/ в наилучшем и строгом порядке/ это будут слова/ от которых бегут без оглядки.
И вот этого самого поэта мы решили издать. Надо было собрать его стихи, рассеянные по старой эмигрантской периодике. Книжка «Денёк» ведь была единственной его книгой. И она тоненькая. Я принялся за поиски стихов, и, наверное, искал бы и поныне, если бы мне не помог профессор Рене Герра, известный коллекционер книг, периодики и живописи — всего наследия эмигрантских писателей и художников.
Коллекция Герра так отлично систематизирована, что за полдня мы собрали «полного Одарченко» по разным журналам.