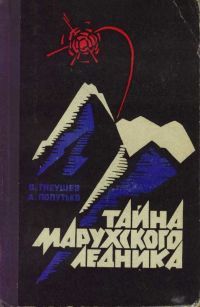– Наши уже не справляются, – сказал Окунев,– так много раненых. А утром она вернется.
– Добро, – сказал Лежнев, закуривая и передавая кисет Окуневу. – Только погодите чуток. С вами пойдет и Гречаный, я его на связь посылаю вон с тем батальоном.
Лежнев показал вправо, на батальон 808-го полка, готовящегося к атаке на “Сахарную голову”. Окунев кивнул головой, жадно закурил и, затянувшись, сказал:
– Красиво живете. Мы уже и запах табачка забывать стали.
– Да ну!—шутливо удивившись, сказал Лежнев,—а мы ничего. Егеря помогают... Потом крикнул:
– Старшина! Скажи морякам, пусть излишки табаку общевойсковым товарищам соберут. Скажи – пехота тоже курить хочет...
Через несколько минут перед Окуневым стоял туго набитый табаком вещмешок. Гречаный поднял его, забросил за плечо.
– Пошли,– сказал Окунев...
Гречаный и Силина должны были вернуться в отряд на следующий день к вечеру. Но возвращаться уже было некуда. Весь отряд начисто смела снежная лавина. Они остались в полку и воевали там почти до середины октября.
– Ко мне солдаты относились по-особому, – вспоминает Филипп Харитонович. – Каждый знал о трагедии моряков. И хоть гибелью там никого удивить нельзя было, а я все же чувствовал, что мне и кусочек получше подвинут, и местечко, чтоб спать, потеплее. Словом, как сирота, я там был в доброй и чуткой семье...
Силина оставалась в батальоне 155-й бригады, а Гречаный воевал на самой седловине перевала до девятого октября, когда он был тяжело контужен и обморожен. Он попал в госпиталь в Кабулети, потом в Батуми, в Ташкент и Троицк. Десять месяцев не поднимался он па ноги, а когда поднялся, то снова отправился па фронт. 26 марта 1945 года, находясь в Курляндской группировке, в бою он снова был тяжело контужен и ранен, после чего пролежал в госпитале непрерывно пятьдесят два месяца, то есть до 20 августа 1949 года. Вышел оттуда инвалидом Отечественной войны 1-й группы. Эту инвалидность имеет и сейчас.
Там, в Ессентуках, мы заканчивали беседу. Мы видели, как волновала она Филиппа Харитоновича, как тяжело переживает он снова утрату друзей, будто случилась она вчера, а не двадцать с лишним лет назад. По чести говоря, мы не хотели ее продолжать, щадя здоровье собеседника, но Филипп Харитонович спросил нас сам:
– Вас, должно, интересует, кого я запомнил по фамилии? Конечно, немногих. Годы и здоровье не те. Голова тяжелая становится, и память слабеет. Но тех, с кем был особенно близок, помню...
Ну, прежде всего, командир отряда Лежнев, о нем я уже говорил. Родом он был из Саратовской области или из самого города Саратова. Потом Григорий Клоповский, помощник командира, по-моему, из Миллерова он. Жена его с ребенком 1942 года рождения оставалась в Комсомольске-на-Амуре. Политрук Самсонов – из Куйбышевской области. Сержант-сверхсрочник Буйко – из города Красноярска. Сержант-сверхсрочник Бибиков – из города Горького пли Рыбинска. Старшина Михаил Бурлак из станицы Старо-Титоровка Темрюкского района Краснодарского края. Михаил Иванович Кондратенко, сержант срочной службы, откуда он, не помню, матрос Карнаущенко – из Умани, матросы Михаил Гаврилишин и Дмитрий Белуга – оба из Бершадского района Винницкой области, односельчане. И наконец, военфельдшер Александра Силина, родом из Новосибирской области, а к нам в отряд попала из Евпаторийского детского санатория, после того как тот эвакуировался.
– Когда я лежал в госпитале в Кабулети, – продолжал Филипп Харитоновпч,– я узнал, что туда привезли и Силину. Я попросил, чтобы меня на носилках отнесли к ней в палату. Наш боевой военфельдшер, веселая и сильная Саша, лежала совершенно беспомощная, раненая и обмороженная так сильно, что почти все время находилась в беспамятстве. Через несколько минут я попросил, чтобы меня отнесли обратно. Больше не мог смотреть. Вскоре после этого меня в тяжелом состоянии отправили в Батуми, а потом и дальше... Больше ничего я о ней не слышал...
Прощаясь, Филипп Харитонович тяжело поднялся и сквозь боль улыбнулся: дали знать старые ранения, особенно позвоночника.
– Сейчас только вспомнил, – сказал он, – что у Карнаущенко в Умани остался единственный сын. Жена его умерла перед войной, сын еще грудной был. Началась война, Карнаущенко передал сына на руки соседке и ушел на фронт. Все беспокоился, как он там. Может, и теперь живой...
В доме номер 3-а по улице Набережно-Крещатицкой в городе Киеве живет этот человек, о котором до последнего времени знали, быть может, лишь немногие его друзья и родные. Двадцать с лишним лет хранил он в своем сердце судьбы своих товарищей, их мужество и переживал их трагическую участь. Теперь о них будут знать многие и принесут им свою благодарность и восхищение.
Снег сначала лишь слегка припорошил вековые деревья над помелевшей речкой, а выше водопада, падавшего со стометровой высоты, деревьев уже не было, начинались отвесные скалы, и снег набивался в мельчайшие щели, с каждым утром становясь плотнее. Теперь, если начинался минометный обстрел, горы виделись словно сквозь сетку бинтов. Это, становясь на морозе сухим, осыпался от ударов воздуха снег.
Именно в это время – в сентябре – на помощь частям 394-й дивизии пришли отдельные горнострелковые отряды, оснащенные и вооруженные ничуть не хуже, чем гитлеровцы, Об этих отрядах рассказывал нам немного Павел Дубинин, бывший боец одного из отрядов, сейчас журналист. Но все это были довольно обрывочные сведения, пока не получили мы письмо от Андрея Васильевича Кийко, проживающего сейчас в Кочубеевском районе Ставропольского края. Он первый рассказал нам о бойцах и командирах этих отрядов.
“...Даже когда наш комиссар 12-го горнострелкового отряда капитан Васильев говорил нам о наших задачах в ближайшие дни, – пишет Андрей Васильевич,– мы все же не думали, что тем, кого мы идем подменять в боях, было так тяжело. Но вот наша 1-я рота подошла к позициям, занимаемым 810-м полком, и мы услышали непрерывную стрельбу из винтовок, пулеметов и минометов, и увидели бойцов, одетых как нельзя хуже для зимы – в худых шинелишках, в поношенных ботинках с обмотками... В руках у них были только винтовки с примкнутыми штыками: наверно, на случай штыковой атаки... Мы сменили их ночью, при тусклом свете снега, начавшего сыпать все гуще. На следующий день он завалил все...”
Дальше Андрей Васильевич описывает бои, в каких ему приходилось участвовать, и трудности, что довелось перенести. Правда, о себе он почти ничего не пишет, зато о товарищах говорит тепло и радостно. Горько звучит окончание письма.
“...А еще хочу рассказать о своем товарище, который погиб, о Роенко Николае Яковлевиче. Было это так. Я служил связным командира взвода, но вскоре командир отделения, где находился Роенко, обморозился, и взводный приказал принять отделение мне. Я принял отделение и охраняемый объект, и тут же узнал, что командир взвода уже предлагал ему отправиться в санчасть, но тот отказался, так как в это время начинался тяжелый бой. Лишь на следующий день, во время затишья мне удалось уговорить его, собственно говоря, приказать ему, чтобы шел лечиться. Он отправился в санчасть с неохотой, но обморожение было уже таким сильным, что выжить Николай не смог. Он умер, и мы его похоронили чуть ниже обороны, в лесу...