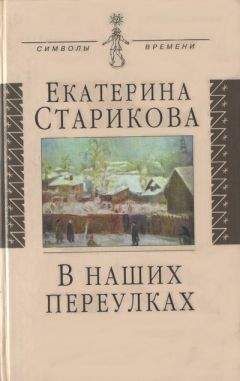Как-то уже в 9-м классе захожу я зачем-то к Диме, в их с матерью крохотную комнату с высоченными потолками (они жили в Еропкинском переулке на Кропоткинской) и среди беспечной болтовни ни о чем вдруг говорю ему, глядя на верх шкафа: «Выбросил бы ты этот пыльный букет, давно пора». А он неожиданно строго: «Нет, я не выброшу его никогда. Эти мимозы папа подарил маме, последний его подарок перед арестом». Мы помолчали минутку, а скоро как ни в чем не бывало снова начали обсуждать подробности «Оды на туфли» — коллективного сочинения нашего класса по случаю обновы нашей учительницы истории. У наших учителей обновы были редки, и мы бурно на них реагировали. И лишь возвращаясь с Кропоткинской на Арбат, я подумала: «Ну и Дима — каждый день видимся, кажется, дружим, а он молчал о таком! Когда у них-то случилась беда?» Но мы и дальше молчали о «таком». Так я никогда ничего и не узнала о беде Редичкиных, ни в школьные годы, ни когда уходил Дима на фронт (наш год рождения призывался в сорок третьем), ни когда раненый убегал он из госпиталя в одной пижаме и прямо к нам, не к матери, чтобы в веселой компании сверстников рассказывать забавные армейские истории: как пришлось ему вспомнить так презираемый нами немецкий язык, агитируя через промерзший жестяной рупор солдат противника и слыша, как они передразнивают его немецкий, как стоял он в строю во время расстрела «предателя», прострелившего себе руку, как рассекали ему гангренозный живот, а он понимал, что врачи считают его безнадежным. И все это, смеясь и веселясь.
Но вернусь к концу тридцатых годов, когда наша комната из семейного обиталища превратилась в своеобразный сначала детский, а потом подростковый клуб. Мама была его неизменным председателем. Почти все его члены, кроме Алеши Стеклова, были или полусиротами или полными сиротами. Они тянулись к маме. Мама лучше нас знала их семейные истории, их личные драмы, их склонности. Они доверяли ей свои секреты, вероятно, потому, что она искренне и взволнованно принимала их близко к сердцу. У нее была удивительная способность проникаться чужими интересами, особенно подростков. А нашими? А моими?
Я не умею объяснить сложности наших с мамой отношений. Безусловное с моей стороны уважение. Да и позволила бы она кому-нибудь нарушить почтительность к ней? Отчетливое осознание мною духовного родства с нею, вернее, ощущение себя скромной наследницей ее духа — восприемницей всего, что хранила ее блестящая память, но не самого богатства фактов и артистизма оттенков их живого бытования, а лишь сознания ценности таковых. Чувствовала я себя и продолжательницей хотя бы отчасти ее роли ответственного свидетеля и судьи течения истории, проходящей перед твоими глазами. Все это я осознала очень рано. Но во всем личном, интимном, даже физическом — между нами стояла стена. И осталась навсегда.
Я пишу эти слова через месяц после смерти мамы. Она умерла 5 мая 1991 года в старой Кунцевской больнице рядом с домом, где прожила последние двадцать шесть лет. Она болела не более четырех дней и твердо решилась на неизбежную операцию, прекрасно осознавая ее опасность на девяностом году жизни. Она умерла через полтора часа после окончания операции, и мы надеемся, что она еще не пришла в себя от наркоза. Бог дал ей долгую жизнь и сравнительно легкую смерть. Истекший месяц мы прожили как бы в тени этой внезапной смерти. И несмотря на незримое присутствие в воображении свежей могилы и содрогания от этого присутствия, еще не можем привыкнуть к тому, что мамы нет. Моя рука по утрам еще тянется к телефону: осталась привычка справиться о ее мнении по поводу вчерашней газетной статьи, уточнить какую-нибудь подробность из исторического прошлого, рассказать что-нибудь забавное о моем внуке и ее правнуке. Эта привычка все еще оставляет надежду на помощь ее живой, отзывчивой памяти, тщетную надежду. И раз уж так случилось, что именно в это время я пишу о ней, мне хочется написать о наших с ней отношениях только правду. Она достойна правды и не любила сентиментальности. Но как нелегко добраться до настоящей правды!
Почему-то вдруг вспоминаю характерный для наших отношений эпизод уже из 50-х годов. Домашняя работница Таня, няня маминого внука Коли, вышла замуж, уехала на родину мужа и прислала маме письмо о каких-то своих семейных неладах. Мама огорчилась и собралась ехать в Белоруссию, в совхоз, где жила Таня. Перед ее отъездом я не без горечи спросила: «Почему ты никогда так не беспокоишься обо мне?» — «О тебе? — удивленно спросила она. — Почему я должна о тебе беспокоиться? Ты получила образование и воспитание, ты можешь сама справляться со своей жизнью». «А Таня?» — ревниво спросила я. «Видишь ли, Таня, живя в нашем доме, тоже получила известное воспитание, но условия ее теперешней жизни ему не соответствуют. Вот и приходится о ней беспокоиться».
Все это было очень логично. Но не чересчур ли холодно? И еще я тогда усмехнулась про себя: тебе же хочется съездить в Белоруссию, в родные места, и там блестяще справиться с новой ролью. А если бы ты знала, как в этот момент надо было беспокоиться за меня! Но логичное заключение поставило точку в разговоре, он не мог иметь продолжения. Мама поехала к Тане и помирила молодых супругов, а я справилась со своими делами.
В тридцатые годы и подобный разговор между мной и мамой был невозможен. Каждый в одиночку справлялся со своей жизнью. Мама спрашивала с нас троих в обыденных делах строго, а в душу не лезла. Что мы хорошо учимся, это само собой разумелось. За случайную плохую отметку никогда не ругала, скорее сочувствовала. Могла огорчиться четверкой вместо ожидаемой пятерки. Всегда старалась подсунуть вовремя необходимую с ее точки зрения книгу, не заставляя ее читать, а заинтересовать какой-нибудь из нее подробностью. Гнев мамы мог быть неистов и не всегда соответствовал обстоятельствам. Но чаще в те годы он обрушивался на головы младших, особенно Алеши. Мне резких замечаний она почти никогда не делала после памятного окрика за неубранную комнату. Только один раз надо мной разразилась гроза. Мы с Тамарой пошли в кино на вечерний сеанс с полного, конечно, маминого разрешения. Но билетов нам не досталось, и Тамара предложила пойти на следующий, ночной сеанс. Он начинался в одиннадцать. Я очень колебалась и хорошо представляла себе последствия такого опоздания домой. Но так хотелось в кино! И не так увидеть фильм, как посмотреть на негра-чечеточника, развлекавшего публику «Художественного» перед сеансом. И еще было стыдно показать свободной Тамаре, что я не смею ослушаться домашнего приказа, как маленькая. В общем, негра, сверкающего лаковыми туфлями, я увидела, а домой вернулась в два часа ночи. И тут прорвалось все, что копилось против меня с тридцать седьмого года (а шел уже тридцать девятый), были помянуты все мои подлинные и мнимые вины, половины из которых я не поняла, а вторую забыла. Помню только, что главным грехом оказались следы помады на моих губах, а намазаться ею изобрела Тамара из боязни, что нас могут не пустить на ночной сеанс. Вот в этом я считала гнев мамы справедливым, вот это я и сама считала несмываемым грехом и признаком своего полного падения. С какими покаянными словами и клятвами будущей чистоты я выбрасывала в помойное ведро грошовый карандашик в бумажном футляре, купленный в аптеке на копейки, с трудом сэкономленные! В конце этого громогласного неистового скандала мама вдруг расплакалась и сквозь рыдания стала мне объяснять: «Пойми, что я так тебя ругаю, потому что люблю и хочу, и надеюсь, что ты будешь когда-нибудь лучше всех». Вот этими словами она меня поразила. Вот эти слова и запомнились как не совсем понятное открытие. Она меня любит? И можно оскорблять, потому что любишь? И можно надеяться, что оскорбительные слова сделают человека когда-нибудь лучше?