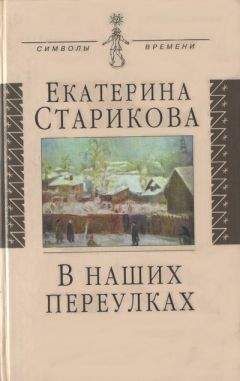Но безудержные вспышки гнева были проявлением лишь одной стороны маминой натуры. Противоположную сторону холодноватую твердость и заражающую стойкость духа — я оценила сполна только в войну.
Никогда не забуду маминой реакции на первую в Москве воздушную тревогу. Я проснулась среди ночи от незнакомого еще нам воя сирены с испуганным возгласом: «Что это?» Мама сидела за письменным столом спиной ко мне, она готовилась к экзамену, спеша сдать его, пока можно: так важно было ей получить диплом о высшем образовании. Не оборачиваясь на мой голос, строгим, учительским тоном мама объяснила мне: «Ничего особенного. Обыкновенная воздушная тревога». И приказала: «Встань, спокойно оденься, и мы неспеша выйдем из дома». Потом власти заявили, что та первая в Москве тревога была учебной. Ни одного взрыва, и правда, не прогремело. Но страшно было: никто еще не знал, куда надо идти и что делать. «Ближе к стенам, а то может задеть осколками… Дальше от стен, можно оказаться под завалом…» — слышалось в шарахавшейся толпе, заполнившей наш погруженный во мрак переулок. Мама же, нащупав в темноте мою руку, все тем же твердым холодным тоном приказывала: «Спокойнее, спокойнее. Главное, не метаться. Ничего страшного пока не происходит…» Мамино отношение к той первой военной опасности стало камертоном для нашего поведения во всех перипетиях последующих лет: никакой паники, никаких жалоб, никаких поблажек в исполнении разнообразных обязанностей, нужных для выживания. Тогда-то я сполна оценила воздействие на нас маминой стойкости, особенно сравнивая ее с истерической паникой, охватывавшей некоторых женщин при частых теперь звуках той же сирены и еще более частых слухах о грозящих нам бедах.
22
Однако и в предвоенные годы я уже отчетливо сознавала влияние на меня маминых взглядов. Именно то, что в советское время называлось «идейное влияние». Но примерно в середине 1938 года я ощутила потребность сопротивления этому влиянию. Трудность моего желания от него освободиться заключалась в том, что логика моих тогдашних знаний об окружающей жизни не давала мне убедительных аргументов против маминого отрицания строя, политики и идеологии страны, в которой мы жили. Я понимала кровавую театральность политических процессов, знала не только о несправедливости, но и о бессмысленности массовых репрессий (экономический «смысл» — бесплатный труд — мне еще не был доступен), я была достаточно осведомлена о губительности для сельского хозяйства колхозов (хотя бы на примере судьбы Макара Антоновича, все писавшего и писавшего нашему отцу горестные письма о порушенной деревенской жизни). Все это я прекрасно знала и понимала, но вдруг как-то устала от этого знания, от печали сплошного отрицания, от его безысходности. Так же, как летом тридцать шестого года мне захотелось освободиться от груза семейной драмы, в тридцать восьмом я ощутила острое желание вырваться из плена маминых неопровержимых доказательств гибельности той системы, в которой мы жили. Особенно часто мама спорила о развращающей нерентабельности колхозов с Павликом Артамоновым. Брат четырех командиров Красной Армии и, конечно, коммунистов, Павлик в тридцать восьмом году был уже комсомольцем и отчаянно опровергал маму, что не мешало ему все чаще и чаще проводить вечера у нас в Каковинском. Я молча слушала эти бесконечные дискуссии, зная неопровержимую правоту маминых фактических аргументов и не желая с ними соглашаться чувствами. Мне вдруг страстно захотелось быть «как все»: ходить на демонстрации 7 ноября и 1 мая, выступать на собраниях с одобрительными речами, писать в стенгазету заметки по поводу наших достижений. Я же видела, как просто живут некоторые мои благополучные одноклассники. Ведь не у всех же были арестованы родители. Мало того, вблизи нашей школы были построены новые благоустроенные дома, в которых поселились работники НКВД. И дети из этих домов появились в нашем классе, спокойные, благополучные, хорошо одетые девочки. Я бывала у некоторых из них дома. И мне так захотелось благополучия и душевного равновесия. Но я не решалась, да и не сумела бы спорить с мамой, тем более победить ее неистовую страстность отрицания.
Однако молча слушая мамины обличения, я достаточно чутко улавливала и уязвимые места ее позиции. Все было правдой в представляемой ею картине нашей жизни: жестокость, бессмысленность, разрушительность, противоречащие самой человеческой природе и законам жизни. Но ведь в то же время это была величайшая ошибка миллионов, результат искренних заблуждений многих прекрасных и чистых людей, таких, как наш папа. В маминых речах того времени не было ни капли понимания той драмы, в них было не горе, а злорадство. И это было самым слабым местом ее аргументов. Я чувствовала в этих нотах злорадства голос побежденного класса, радующегося великому несчастью: не вышло, величайшая утопия рухнула! Но, думала я тогда, ведь было же в той утопии величие духа, грандиозность мечты о полном бескорыстии? С детской потребностью в полной искренности я ощущала ограниченность сплошного отрицания духа революции — при всей бессмысленности и количестве пролитой крови. Раньше маме не была свойственна какая-либо, а тем более сословная, ограниченность.
Может быть, в тех моих одиноких раздумьях играла роль и война в Испании. Трудно было подростку не проникнуться романтизмом той борьбы против фашизма, объединившей героев разных стран. Ведь мы не читали «По ком звонит колокол» и не скоро его прочтем. А дух испанской гражданской войны пронизывал весь наш быт. В Москве на углах улиц продавали испанские апельсины, и город был засыпан цветными бумажками от них. Апельсинов мы, конечно, не ели, но маленькая Лёля собирала с мостовой красивые бумажки и составила из них пеструю коллекцию. Названия испанских городов звучали в наших ушах постоянной героической музыкой. А однажды я попала в Детский театр на «Приключения Буратино» (такая большая, читавшая Достоевского и Толстого, а с каким увлечением смотрела вместе со всеми эту модную сказку, а главное, песенки, песенки слушала и запоминала, их скоро запоют все вокруг: «Был поленом, стал мальчишкой…»). В тот день, оказалось, театр был заполнен испанскими детьми, недавно привезенными на пароходах в СССР. Об этом объявили нам со сцены. И зал встал и бурно, долго аплодировал испанцам, а они — в красных шапочках с кисточками — нам. Это был нечастый в моей жизни момент счастливого единения с массой, в данном случае — с детской, а потому особенно восторженной и искренней.
И я пошла в школьный комитет комсомола и попросила анкету для вступления в него. «Тебе же еще нет пятнадцати?» — спросила дежурившая активистка. «Еще нет. Но на будущий год будет», — ответила я гордо.