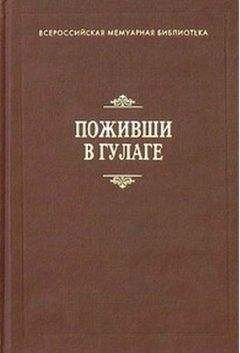Я стал привыкать к лагерной жизни. И холод, и голод, и частые драки принимались как обыденные, обязательные. Я даже начал воспринимать все невзгоды с каким-то юмором, и, когда другие, старше меня, мужчины проявляли малодушие, поддаваясь унынию, порой граничащему с отчаянием, я иногда ловил себя на том, что, глядя на них, невольно улыбаюсь. Что это, жестокость, бессердечие? Видимо, я их просто не понимал, не будучи отягощен заботами о семье. У меня появилось даже короткое знакомство. Ее звали Лидой. Она была старше меня и сама подошла в какой-то промежуток между работой. Снег, выпавший накануне, пухлой шубкой укутал землю, комки которой, будто продырявив белый покров, чернели многочисленными кочками, создавая резкий цветовой контраст на фоне монотонного серого неба. Порывистый ветерок заставлял поеживаться, пронзая мою дырявую телогрейку. Выглядел я, наверное, довольно жалко в лагерном истрепанном одеянии. Но она заговорила со мной. Расспрашивала, кто я такой, откуда, по какой статье здесь. Посочувствовала, даже назвала хорошеньким и попросила подарить ей на память синий шерстяной пушистый шарфик — единственную сохранившуюся у меня вещь из дома, — в который я кутал шею за неимением воротника. Видимо, по моей кислой мимике Лида поняла, что мне жаль шарфика, и с видом, от которого я готов был тут же провалиться сквозь землю, отошла, окончательно добив меня брошенной через плечо улыбкой.
Весь остаток дня и вечер я ходил как оплеванный и в конце концов решил найти Лиду и вручить ей шарфик, ставший отныне показателем моей отъявленной скупости и того, что я маменькин сынок, неспособный оценить женское внимание и ласку.
Самым страшным преступлением в лагере, карающимся без малейшей пощады, являлось посещение мужчинами женских бараков и, соответственно, женщинами мужских. Записанное в правилах внутреннего распорядка просто как посещение чужих бараков, положение это надзорсоставом всех без исключения лагерей трактовалось гораздо шире и понималось ими как запрещение вообще встречаться лагерным особям разного пола где бы то ни было. Любовь безоговорочно каралась десятью сутками карцера без выхода на работу с суточной пайкой в 300 граммов хлеба с водой и миской баланды на обед.
И все-таки, несмотря на такую страшную кару, я решил найти Лиду. Мы пошли к женскому бараку вместе с Алексеем. До отбоя оставался еще с час времени. Было совсем темно. Как тати в ночи, подкрались мы к женскому бараку. И тут неожиданно перед нами выросла крупная фигура начальника Культурно-воспитательной части. Мы узнали его по кожаному пальто, в котором он всегда ходил, и меховой шапке.
— Куда? К бабам захотели? — зарычал он на нас, добавив нелестное слово в наш адрес.
Мы что-то промемекали в свое оправдание, стараясь убедить начальника, что он нас неправильно понял. В ответ он разразился бранью и для большей убедительности дал Алексею пинка. Мы же остались довольны, что этим дело и кончилось, и несолоно хлебавши вернулись в свой барак.
Наше место в бараке было в самом дальнем и темном углу. Я уже засыпал, когда вдруг услышал над собой на верхнем ярусе нар приглушенный женский голос и тут же мужской. Я толкнул Алексея:
— Кто это?
— Да она, Лида, бригадир женской бригады.
Нары поскрипывали, я не мог спать. Потом мужчина спустился вниз, вместо него наверх полез другой. И опять приглушенные голоса. Барак спал, посвистывало многолюдное дыхание, колыхались язычки пламени коптилок. В нашем углу покачивались со стоном нары.
Земляк
Шел декабрь. Позади остался первый год моего заключения. Снег скрыл асфальтовую полосу построенного аэродрома. Поседевший лес угрюмо взирал на изуродованную нами природу. Нам ничего не было жалко, разве только каждому самого себя. Мы смотрели в свое будущее, как в пустоту, ежедневно отсчитывая отбытые дни. Каждый день как упавшая капля.
В один из вечеров Алексей принес новость: с нами в бараке живет наш земляк. Оказалось, что это Павел Федорович Бахарев, бригадир деревообрабатывающей мастерской, которая имелась при лагере. Его, лейтенанта интендантской службы, арестовали по 58-й статье, отозвав с фронта. До войны он жил сначала в Павлове, потом в Горьком. Работал в страховой инспекции. Поговорив с нами, он обещал попросить начальство перевести нас в свою бригаду. Это было бы как нельзя кстати — работать под крышей: зима еще впереди. Мы расстались перед сном довольные. Однако случилось так, что мы не увиделись. Буквально на следующий день нас с Алексеем выдернули в дальний этап.
Народная мудрость гласит: гора с горой не сходится, а человек… В 1955 году, третьем после возвращения из заключения, я работал начальником ремонтно-строительного цеха Павловской металлообрабатывающей артели имени Кирова. Цех наш располагался за оврагом, позади основной площадки предприятия. Здесь же размещалась и конюшня: лошади в то время являлись основным видом внутризаводского транспорта. Тут я и познакомился с заведующим этим хозяйством. Хотя разница в наших годах была значительная, моя нужда в транспортных средствах да и вообще что-то общее во взглядах на жизнь, в оценке происходящего вокруг сблизили нас. Мы относились друг к другу с почтительным уважением. А как-то он подошел ко мне и неожиданно спросил:
— А вы в сорок четвертом в Монине были?
— Нет, — ответил я, поняв, о чем он говорит, — я был в Медвежьих озерах.
— Совершенно верно, — согласился он. — Только вас оттуда отправили несколько раньше неизвестно куда, а нас в Монино.
Я признал, что, действительно, все так, видимо, и происходило, не понимая, к чему он клонит.
— А помните, — спросил он, — вечерний разговор в бараке о переходе в столярную мастерскую? Вот я и есть тот бригадир Бахарев.
Мы вторично познакомились, меня только удивило: как мог он меня узнать, когда я совершенно забыл его? Оказывается, будучи в Метартельсоюзе — нашей вышестоящей организации, — он услышал обо мне как о бывшем узнике, а случайно запомнившаяся деталь из нашего разговора, что мать моя — педагог, натолкнула его на догадку.
С тех пор мы с ним не расставались. Когда меня направили главным инженером в Павловское ремстройуправление, я пригласил его начальником по транспорту. Через семь лет, когда я возглавил сельское строительство района, он работал у меня прорабом. Мы очень дружили. Случилось так, что и жили друг от друга недалеко, и дружба наша перешла нашим семьям. Ему исполнилось шестьдесят два года, когда мне пришлось проводить его в последний путь на Павловский погост.