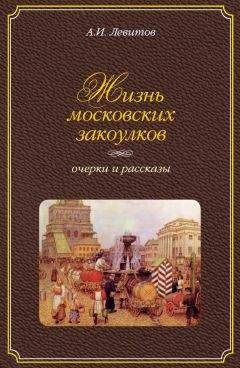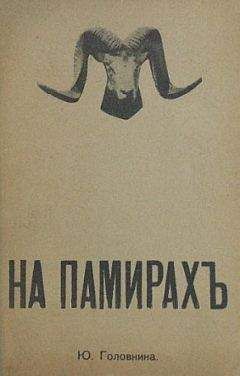– Так, так; это часто бывает!..
Третьи, ежели их спрашивали о Свистунщикове-старике, смешками отделывались, рассказывали одну общую легенду про всех русских купцов:
– Видишь ли, милый! Я уж сколь хорошо знаю этого Свистунщикова, – уж на что лучше! Видишь ли, как он, это, пришел из своей Сибири, сичас же в собор и там, слушай, по секрету сказываю, – с церковного блюда пятак украл. Жрать это ему, скверному, страсть как хотелось!.. И он сичас – шельма эдакая, аки бы что кладет на блюдо – сичас взял и пятак это стянул… А? Каков?.. Только что же ты думаешь? Пожрал он на эти деньги, али нет?
– Неужто нет? – пугливо осведомлялся слушатель.
Рынок на Московской набережной. Фотография конца XIX в. Частный архив
– Вот то-то и есть, что не пожрал! Купил он на эти деньги иголок – и пошел… Иголки продал, наперстков купил, потому барыш, что ж ему?.. Наперстки продал, за тесемки принялся… И так он торговал три года. Ты думаешь, я вру? Мне что же врать-то! Люди ложь, и я тож, а сказывали, кто его знает, что он не бе-ез-з колдовства, потому во все эти три года он ни капельки хлебца на свои деньги не съел, а иные говорят, что и воды даже (на что уже вода у нас дешева! Чив-во дешевле, ха-ха-ха-ха!) так капельки не пил…
– И не и-пил!.. А-а-а!..
– Да вот так-то! Понимай, как знаешь. Да еще сказочка-то далече не вся!..
– Нни-фс-сяя?..
– То-то и есть, что не вся! – докладывал со знаменательной улыбкой друг Федосея Ивановича. – После этих годов знаешь, сколько у него денег в наличности оказалось? – Мил-л-лион на ассигнации!
– Миллион на ассигнации?
– Д-дда-а!..
– Ббо-ожже!..
И даже в то время, когда Федосей Иваныч имел не миллион, а пять на ассигнации, однажды сказали ему за верное, что вот, мол, как друзья ваши, Федосей Иванович, про вас разговаривают, так он, всегда веселый и ласковый, нахмурился в это время грозной тучей, ударил себя в грудь мощными руками и громко и ропотно взмолился:
– Гос-споди! Я ли не терпел, я ли не любил?..
И какие домочадцы сквозь щели дверные могли слышать это, так они так сказывали про хозяина:
– Походили, походили они по горнице, тяжко-тяжко задумавшись, и головку на грудку склонили, потом на колени упали и с горькими слезами воскликнули:
– Друзи мои и искренний мои отдалече мене сташа!..
– С тех пор, – досказывали домочадцы – они такими и стали грозными!.. Аки буря завсегда все ломает, – не подступайся! И насчет деньжонок тоже, в эфто именно, а не в какое-либо другое время, их подлай бес скупости обуял. Прежде просты были, и-их как просты!..
Невзлюбило купеческое сердце такого обмана от дружьев, и принялось оно с великими подходами отыскивать, разузнавать, расспрашивать людей, говорящих за верное, кто им про это рассказывал… «Где же и когда именно рука моя грешная на церковные деньги пала?..» – с великой тоской спрашивало это сердце.
Потом принималось с собой одним тихо раздумывать:
– Может, это так! Может, это они так только, в шутку… Все-таки они, надо полагать, любят меня, потому… Боже! рази я не делал им тово и тово… Рази я что-нибудь жалел? Нет. Это что же? – Это неправда…
И так сомневался, так скорбел Федосей Иваныч, что однажды взял вся своя и отослал потихоньку в Собор, чтобы никто про это дело не знал и не ведал. Поспокойнее стал после этого; только, начитавшись иногда на сон грядущий Четьи минеи, он на постели своей, сквозь сон, вскрикивал:
– Да я ведь опять торговать буду! Думаю об этом завсегда! И слаще всего мне дума эта… В чернецы не пойду!.. Нне-е-т!
Недостоин, недостоин, потому к земному у меня очень еще много охоты…
– Федосей Иваныч! Федосей Иваныч! – будили его прислужники, когда он во весь голос кричал о своем последнем нежелании. – Проснитесь, сударь… Вопите оченно…
– Што? Што? – злобно вскрикивал Федосей Иваныч, просыпаясь. – Что тебе нужно-то, дьяволу? Никогда хозяину спокой не дадут, а хозяин за них, может, всей душой страдает… Вам ведь, чертям, пить-есть надо добыть…
Уходили тогда все от него, и пуще он озлоблялся и думал:
– Вот все и ушли… Небось я до обману ихнего не бросал их!..
Женился Федосей Иванович на какой-то обедневшей купеческой дочери. Приданого за ней ничуть не было, так как взял он ее за одну красоту. И принялся он ей такой разговор разговаривать:
– Ведь вот твои родители хоша и обедняли, а все же купцы. Тебе и во сне не приснится, что я перенес… Я ведь все, что худого в свете есть, на своей шкуре вынес. Гляди же ты у меня, баба, ежели что…
И так он жене часто об этом рассказывал, что молодая, при всем том, что сначала полюбила было его победную голову, взяла однажды да и ушла в недалекую прогулку с проходившим мимо развеселым офицером, – ушла и наказала кухарке:
– Смотри, чтоб у меня ни слуху ни духу Федосею Ивановичу… Вот тебе за это рубль серебра.
А Федосей Иваныч всегда кухарке по два на серебро давал – и воцарились в семействе ложь и драка смертельные.
В гроб вогнали купецкую, взятую за красоту, дочь эти ложь и драка. На буйное, самое беспардонное пьянство навели они Федосея Иваныча – и сгубили навсегда малолетнего Петра Федосеича.
После смерти матери малолетнего Петю окружили целые толпы и своих, и иноплеменных учителей, самых что ни на есть дорогих и лучших. К стеклянному подъезду то и дело подлетали в лихих пролетках – то какой-нибудь игривый, в пух и прах расфранченный француз, то толстый, с вытаращенными глазами немец в шляпе, сдвинутой на затылок, то серьезный приходский батюшка.
Затормошенный вконец различными уроками, моралями, прописями, отметками, похвалами и порицаниями, Петя часто принимался умаливать отца, чтоб он уволил его хоть на денек, на завод бы его отпустил, потому сад там, на заводе-то, и река…
– Потерпи, потерпи, миленький! Помогутайся безделицу! – такими словами осушал Федосей Иваныч робкие сыновьи слезы. – Ведь это все тебе в пользу пойдет опосля… Ты гляди, сколько я за тебя денег плачу – страсть…
Иногда, действительно, больно укалывало что-то сердце Федосею Иванычу, когда взглядывал он на своего ребенка в его классной комнате. Большой, круглый стол стоял в этой комнате, на нем, словно в лавке канцелярских принадлежностей, ворохами лежали прописи на разных языках, перья и гусиные, и стальные, карандаши, резинки, аспидные доски, счеты, циркули, книги, в которых сам старик ни единого даже слова разобрать не может. Посмотрит на все это старый купец и припомнится ему далекое, смутно представляемое малолетство: широкие поля, дремучие леса, светлые реки – и воля полная.
Тихо улыбался тогда Федосей Иваныч, глядя на смирного, хворого сына, и шептал про себя: