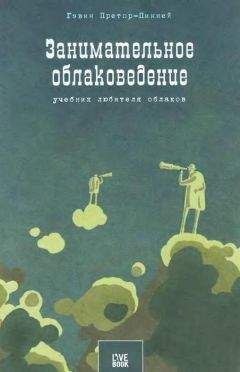Я отдаю долг учителю музыки, руководителю духового оркестра Журавлёву Алексею Сергеевичу, привившему мне с детства способность слушать, чувствовать музыку и приспосабливаться к товарищу и к коллективу.
Я отдаю долг первому инструктору-планеристу Паше Зайцеву, выпустившему меня в воздух на утлом БРО-11 в самый первый самостоятельный полет, когда ветер затрепал рукава и я понял, что это — моё.
Я отдаю долг, может, запоздалый, своему первому пилоту-инструктору Дьякову Владимиру Павловичу, с которым, как мне казалось по молодости, у нас не совсем сложились отношения. Однако, мы с Колей Недогибченко — из одной лётной группы пилота-инструктора Дьякова, и мы, может, одни такие, летаем уже 35 лет. Инструктор наш был педант и «кулповец» — но мы, ученики-то его, летаем! Значит что-то он нам привил такое, что способствовало лётному долголетию, да только я, в глупости своей, не оценил этого вовремя. Низкий, низкий, сердечный поклон Вам, Владимир Павлович! И великое спасибо за науку.
И командиру звена Ивану Евдокимовичу Кутько, за один-единственный момент, за «Чикалова», — я тоже отдаю долг. Именно этими словами я напутствую вторых пилотов, чтобы у них появилась уверенность в своих силах и способностях.
Я в долгу перед своим капитаном на Ил-18 Александром Фёдоровичем Шевелем, с которым пролетал три года и у которого получил школу, совершенно оригинальную, — каким должен быть капитан и какую прекрасную обстановку он может создать в экипаже.
Всех не перечислишь. Я отдаю долги.
Первые полёты с новым подопечным мне, и правда, приходится производить, мягко придерживаясь за штурвал. Конечно, все науки, на скорую руку вдолблённые ему при переучивании на лайнер, метелью вьются у него в голове. Он путается в командах, ответах на пункты контрольной карты…он подавлен темпом и скоростями. Но заветный штурвал у него в руках! И потихоньку я начинаю руки со штурвала снимать.
Надо дать понять человеку, что я ему максимально доверяю. Что я, если уж крайне понадобится, вмешаюсь. Но руки-то — вот они! — я держу их с раскрытыми ладонями по сторонам штурвала: дерзай, вытворяй… или сотворяй свой полет!
Постепенно руки перекочёвывают на колени. Правда. бывают моменты, когда они рефлекторно ныряют между… Я терплю и, весь в поту, доверяю, доверяю, доверяю все больше и больше.
Язык, конечно, работает. Ну, о языке попозже. Инструктор должен уметь научить ученика предвидению ситуации и сделать это коротко, внятно, корректно, вовремя. Лучше — «до того». Лучше, когда делаешь это красиво. Боже упаси — под руку. Это проверяющий высокого ранга может процедить, в самый неподходящий момент, вызывающе-презрительным тоном: «Кто тебя учил так летать?» И человек теряется: «О чем это он? о том? об этом? а может, обо всем сразу?»
Я приучаю молодых, с привлечением «Чикалова», чтобы не терялись перед высокой фуражкой. Спросит проверяющий: «Кто тебя так учил?» — отвечай смело: «Ершов». Срежь его. А я — отвечу, если что.
Не знаю, претензий ко мне со стороны начальников не было.
А как же с показом собственными руками?
На третьем или четвёртом полёте довелось нам заходить в Новосибирске ночью в сложных условиях. Малоподвижный фронт закрывал Толмачево низкой облачностью, и уже с одним курсом садиться было нельзя; с другим курсом высота облачности ещё позволяла, и РП решил сменить курс посадки, благо, ветра почти не было.
Смена посадочного курса всегда сопровождается суетой и «этажеркой» самолётов в зоне ожидания. Диспетчер круга решает сложную задачу разводки самолётов на безопасные интервалы, и это связано с энергичной сменой эшелонов и отворотами на большие углы; тут уж держи ушки топориком.
Экипаж должен работать как единый отлаженный механизм, чётко представляя себе всю обстановку и своё положение на кругу.
А тут справа помощник… едва справляется со скоростью и высотой, путается в ответах… растерялся…
Короче, взялся я сам: и скорость, и курс, и шасси, и закрылки, и связь, и контрольную карту… и все это надо окинуть капитанским взором и оценить объективно.
Ну, опыта мне хватило. Кроме фар: до них как-то руки не дошли; штурман громко и чётко читал высоту, и над торцом я только успел ударить по тумблерам фар в положение «Рулежные»; фары высветили бледным светом столбы тумана, а сквозь них — тусклые строчки огней по обочинам, расплывающиеся в залитом дождём стекле. «Дворник» молотил; я для гарантии поставил режим 75 — и тут же покатились.
— Малый газ! Реверс! Реверс, реверс, включай же! Тяни рычаги!
Он так и не понял, что мы уже сели. Он вообще ничего не понял:
— Как по телевизору…
— Когда-нибудь и ты так научишься.
Я вспомнил американский боевичок с девочкой-подростком за штурвалом, ухмыльнулся: режиссёра бы сюда… да только ничего бы он не понял.
Я сам-то делал все на подкорке: руки справились по привычке. Так девятнадцать же тысяч часов за спиной!
Но — красиво.
Так вот, о языке. Ну, школа собственных родителей-учителей; да с шести лет в библиотеке, в читальном зале (трудно сейчас поверить, но мы по полдня просиживали в читалке); да два курса института — к училищу я свободно владел русским литературным языком. И на самоподготовке курсанты-товарищи часто, да почти что каждый раз, просили меня «растолковать» только что услышанный на занятиях материал. И я брался. Уяснял и для себя до тонкостей, и научился популярно доводить до людей.
С тех пор я понял, что есть во мне то, в чем я безусловно силён. И вокруг этого стержня наматывался и наматывался опыт. Я ничего не забывал из того, что случалось и со мной, и с коллегами. В лётных дневниках копились факты; я думал, анализировал, делал выводы. Складывалось профессиональное мировоззрение.
Практика подтвердила: мне дано тоньше и глубже многих чувствовать полет. Значит, я должен это передать.
Вот она, убеждённость, что «птица — велика»: именно я-то лучше всех и продолжу наше Дело. Не могу себе позволить из ложной скромности унести с
собой накопленный и обобщённый опыт моих учителей. Может, я именно ради этого и рождён на свет. И чем нас, таких вот, «нескромных», «блаженненьких», что «от себя гребут», будет больше, тем человечество энергичнее пойдёт вперёд. И не политиками движется прогресс — политики нас уже «задвинули», — а мастерами, идущими в первых рядах. И вызревает это внутри каждого отдельного человека, по-своему, индивидуально, неповторимо, не так, как у всех.
Не я один такой — есть единомышленники, мастера, есть каста людей, которым мало крутить штурвал за ту копейку, а надо, зажав часть тела в кулак, дать штурвал молодому, потому, что ЕМУ БОЛЬШЕ ХОЧЕТСЯ! И в успехе ученика увидеть свою жизненную состоятельность, смысл, высшее нравственное наслаждение.