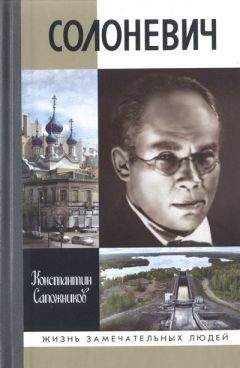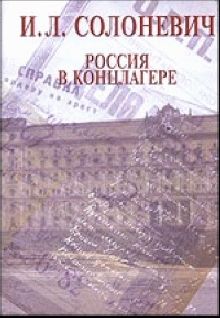«Черви-козырь»
Борьба без вздоха, а не вздох без борьбы.
В далекие мирные времена какой-то купец сибиряк построил невдалеке от Томска, у реки Томь громадную паровую мельницу. Потом по этим местам прошли валы гражданских войны, Ленинский лозунг — «экспроприируй экспроприаторов» дал свои ядовитые плоды, и в результате громадное здание было полуразрушено. Окна, рамы, двери были сломаны, все имущество было растащено, и только многотонные чугунные станины от больших машин в нижнем этаже до конца противились разгрому.
В 1924-28 годах «ликвидацию беспризорников» взяло на себя ОГПУ, и во главе этой ликвидации стал сам Дзержинский со своими «железными мерами».
Этими «мерами» — расстрелами, раскулачиванием, тюрьмами, лагерями создавались кадры беспризорников…. Эти же меры, по мнению инициаторов, должны были прекратить это больное явление. Одной рукой ОГПУ создавало беспризорность, другой — ликвидировало ее…
Были созданы Болшевская, Люберецкая,[35] Орловская Трудкоммуны ОГПУ, где начата была «перековка малолетних правонарушителей». Перековка шла по штампам ОГПУ, и для того, кто не подходил к этим штампам, с чекистской гостеприимностью расступалась мать сыра-земля…
В 1928 году Московскому ОГПУ пришло в голову создать Коммуну и в далекой Томской губернии, и здание старой мельницы было намечено под это новое «воспитательное учреждение».
Организация была до крайности проста. Из Москвы прибыло несколько эшелонов с беспризорниками. Больше тысячи «живых песчинок» было выброшено из этапных вагонов и направлено под конвоем на мельницу.
Была холодная сибирская осень. Сотни полураздетых ребят в возрасте от 12 до 20 лет были предоставлены самим себе. Им были даны в помощь несколько воспитателей из числа ссыльных, пилы, топоры, кое-какие материалы и сказано:
— Вот вам дом — устраивайтесь, как знаете…
Дороги, ведущие от мельницы к городу и деревням, были оцеплены патрулями ОГПУ, и «Томская Трудкоммуна ОГПУ» на бумаге стала числиться существующей.
Летом 1929 года, когда я был из Томска переброшен в Коммуну, как «специалист по пенитенциарии», старые знакомцы по моим вольным и невольным путешествиям по России рассказывали мне, к а к пришлось им пережить первую зиму существование Коммуны. С ними поступили по большевицки: или — или. Или делайте так, как приказывают, или погибайте…
Много недель прошло, пока ребята смогли своими руками, без сил, уменья и руководства, отремонтировать себе под общежитие один этаж громадной мельницы. И суровой сибирской зимой, когда ртуть сползала ниже 50, оборванные, голодные дети проводили свои ночи на полу громадных зал мельницы, греясь у разведенных на цементном полу костров…
Многие пытались бежать. Из них большинство было поймано или пристроено. Несколько старших ребят рассказывали мне, что из тысячи брошенных в это гиблое место «коммунаров» в первую же зиму умерло не менее 300. Судя по тому, что я сам видел и знаю о жизни таких Трудкоммун, я считаю эту цифру близкой к действительности.
Но кто когда-нибудь сможет точно узнать правду о страшных цифрах отсева ГПУ'ской «перековки»?..
Осматривая Коммуну, я встретил там нескольких старых знакомых по тюрьмам, этапам и лагерям. Как-то утром я посетил и темный пожарный сарай, где стояла бочка с водой, небольшая моторная помпа и несколько багров.
Длинный костлявый парень сидел, согнувшись, у входа и чинил рваный пожарный рукав. Разглядев меня, он удивленно свистнул:
— Вот это да!.. Товарищ Солоневич!.. Гора с горой не сходится, а соловчане или на этом, или на том свете обязательно встретятся…
Очевидно, на моем лице было написано тщетное старание вспомнить, где я встречал этого пожарника, ибо последний укоризненно добавил:
— Эх, товарищ Солоневич! Стыдно так старых друзей забывать… А я-то так хорошо нацеливался вам финку под седьмое ребро сунуть…
— Ну и рекомендация!..
Парень осклабился.
— Да уж не хуже других каких… А, признаться, мы здорово повздорили с вами. Разве-ж тюремный двор в Питере забыли? Да драку насчет попа?
— И вы там были?
— Ну, как же! Я аккурат сбоку заходил, чтоб под ваш кулак не попасться!
На лице пожарника было написано столько неподдельной радости от встречи, и историю с финкой и моим ребром он рассказал так беззлобно, что я рассмеялся и пожал протянутую руку.
— Да мы потом и еще встречались… На Соловках… Оно, конечно, я с морды малость с тех пор попорченный. (Он указал на свой переломленный нос.) Это прикладом меня в этапе саданули… Однако, вы, верно, вспомните: я в музыкантской команде был. В тромбон бухал. Меня «Черви-Козырь» звать…
Теперь я вспомнил «Черви-Козыря» — профессора карманного дела и страстного картежника, не без шулерских талантов
— Ну, как видно, вспомнил?.. А оно и верно — подался я сильно. Оно, конечно, — годы какие! Это все равно, как в Севастопольской обороне… Я читал — год за десять считался… Так и у нас…
— А как вы здесь очутились?
Черви-Козырь осклабился опять. В это время в сарай вошел низенький, согнутый человек в кожаной тужурке.
— Что, опять разговорчики завел? — с какой-то свистящей ядовитостью спросил он. Черви-Козырь приподнялся, и благодушное выражение его лица разом сменила плохо скрытая мрачность и враждебность.
На фуражке вошедшего была звезда, а на боку висел наган. Он мягкими, словно кошачьими, шагами обошел сарай и сделал несколько замечаний. Пожарник угрюмо шел за ним.
Когда они снова подошли к выходу, я разглядел чекиста более ясно. Это был еще молодой еврей со впалыми щеками и лихорадочно блестевшими глазами. Эти черные, глубоко впавшие глаза постоянно бегали с места на место, и он не смотрел в глаза собеседнику. Бледные губы постоянно кривились в какой-то злорадной усмешечке. Голова и щека часто подергивались каким-то странными судорожным движением.
Чекист оглянул неприветливым взором и меня и сделал пожарнику несколько замечаний о сарае.
— Этак придется тебе, Черви-Козырь, опять, пожалуй, комариков подкормить, — закончил он свои выговоры.
— Дак за что же, товарищ комендант? — с беспокойством спросил пожарник.
— А за то, чтоб ты поласковей рожу делал, когда начальство встречаешь! — хмыкнул чекист. — А вам, т. Солоневич, — ведь вы Солоневич?