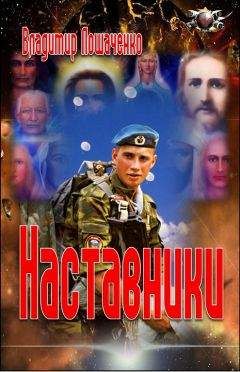Мартынов, находясь в Пятигорске в общем товарищеском кругу с Лермонтовым, да живя с Глебовым, стеснялся, конечно, резко высказывать внутреннее негодование на Михаила Юрьевича, но он не раз просил поэта оставить его в покое своими издевательствами «особенно в присутствии дам».
Между тем антагонизм «смешанного общества» с представителями «столичного» шел своим чередом. 8 июля молодежь задумала дать бал в честь знакомых пятигорских дам. Деньги собрали по подписке. Лермонтов был главным инициатором, ему дружно помогали другие. Местом торжества избрали грот Дианы возле Николаевских ванн. Площадку для танцев устроили так, что она далеко выходила за пределы грота. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом; стены обтянули персидскими тканями; повесили искусно импровизированные люстры, красиво обвитые живыми цветами и зеленью; на деревьях аллей, прилегающих к площадке, горело более 2000 разноцветных фонарей. Музыка, помещенная и скрытая над гротом, производила необыкновенное впечатление, особенно в антрактах между танцами, когда играли избранные музыканты или солисты. Во время одного антракта кто-то играл тихую мелодию на струнном инструменте, и Лермонтов уверял, что он приказал перенести нарочно для этого вечера Эолову арфу с «бельведера» выше Елисаветинского источника. От грота лентой извивалось красное сукно до изящно убранной палатки — дамской уборной. По другую сторону вел устланный коврами путь к буфету. Небо было бирюзовое с легкими небольшими янтарными облачками, между которыми мерцали звезды. Была полная тишина — ни один листок не шевелился. Густая пестрая толпа зрителей обступала импровизированный танцевальный зал. Свет фантастически ударял по костюмам и лицам, озаряя листву дерев изумрудным светом. Общество было весело настроено, и Лермонтов танцевал необыкновенно много.
«После одного бешеного тура вальса, — рассказывает Лорер, — Лермонтов, весь запыхавшийся от усталости, подошел ко мне и тихо спросил: „Видите ли вы даму Дмитриевского? Это его карие глаза! Не правда ли, как она хороша?!“ Дмитриевский был поэт и в то время был влюблен и пел прекрасными стихами о каких-то карих глазах. Лермонтов восхищался этими стихами и говаривал: „После твоих стихов разлюбишь поневоле черные и голубые глаза и полюбишь карие очи...“ В самом деле она была красавицей. Густые каштановые волосы ее были гладко причесаны и только из-под ушей спускались на плечи красивыми локонами... Большие карие глаза, осененные длинными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями, поразили бы всякого... Бал продолжался до поздней ночи или, вернее, до утра. Семейство Арнольди удалилось раньше, а скоро и все стали расходиться; говорю расходиться потому, что экипажей в Пятигорске не было. С вершины грота я видел, как усталые группы спускались на бульвар. Разошлась и молодежь... А я все еще сидел погруженный в мечты!..»
Бал этот, в высшей степени оживленный, не понравился лицам, нерасположенным к Лермонтову и его «банде». Они не принимали участие в подписке, а потому и не пошли на него. Еще до бала они всячески старались убедить многих из бывших согласными участвовать в нем, отстать от предприятия и создать свой «вполне приличный, а не такой, где убранство домашнее, дурного вкуса» и дам заставляют «танцевать по песку». Под влиянием этих толков и князь Владимир Сергеевич Голицын, знакомый со многими из «смешанного общества», стал говорить о том, что неприлично угощать женщин хорошего общества танцами с кем попало на открытом воздухе. Говорят, что с этими представлениями князь Голицын обратился к Лермонтову или высказывал их в присутствии последнего и что Лермонтов возразил ему, что здесь не Петербург, что то, что неприлично в столице, совершенно прилично на водах с разношерстным обществом. Тогда князь поднял опять старый вопрос о приличном и неприличном обществе и сообщил о желании устроить бал, как следует, в казенном саду, воздвигнув там павильон с дощатой настилкой — с приличным для танцев полом; допускать же участников лишь по билетам.
Лермонтов заметил, что не всем это удобно, что казенный сад далек от центра города и что затруднительно будет препроводить усталых после танцев дам по квартирам, наемных же экипажей в городе всего 3 или 4. Князь стоял на своем, утверждал, что местных дикарей надо учить, надо показывать им пример, как устраивать празднества.
Мы видели, что молодежь с князем Голицыным не согласилась и устроила свой праздник. Тогда князь со своей стороны решился устроить бал в названном казенном саду на 15 июля, в день своих именин, и строптивую молодежь не приглашать.
У Верзилиных, кроме случайных сборов, молодежь и знакомые сходились по воскресным дням, и тогда бывали в их салоне танцы. 13 июля, в воскресенье, стали собираться обыкновенные посетители, потолковали идти ли в казенную гостиницу на танцевальный вечер и решили провести вечер в своем кругу. Народу было немного: полковник Зельмиц с дочерьми, Лермонтов, Мартынов, Трубецкой, Глебов, Васильчиков, Лев Пушкин и еще некоторые. В этот вечер Мартынов был мрачен. Действительно ли был он в дурном расположении духа или драпировался в мантию байронизма? Может быть, его сердило, что на аристократический вечер, приготовлявшийся князем Голицыным с большими затеями, он приглашен не был. Танцевал Мартынов в этот вечер мало. Лермонтов, на которого сердилась Эмилия Львовна за постоянное поддразнивание, приставал к ней, прося «сделать с ним хоть один тур». Только под конец вечера, когда он усилил свои настойчивые требования и, изменив тон насмешки, сказал: «M-elle Emilie, je vous prie, un tour de valse seulement, pour la derniere fois de ma vie (я прошу вас, только один тур вальса, в последний раз в жизни (фр.))», она с ним провальсировала. Затем Михаил Юрьевич усадил Эмилию Львовну около ломберного стола и сам поместился возле. С другой стороны занял место Лев Пушкин. «Оба они, — рассказывала Эмилия Александровна, — отличались злоязычием и принялись a qui mieux mieux (в запуски) острить. Собственно обидно злого в том, что они говорили, ничего не было, но я очень смеялась неожиданным оборотам и анекдотическим рассказам, в которые вмешали и знакомых нам людей. Конечно, доставалось больше всего водяному обществу, к нам мало расположенному, затронуты были и некоторые приятели наши. При этом Лермонтов, приподнимая одной рукой крышку ломберного стола, другою чертил мелом иллюстрации к своим рассказам». В это время танцы прекратились, и общество разбрелось группами по комнатам и углам залы. Князь Трубецкой сидел за роялем и играл что-то очень шумное. По другую сторону Надежда Петровна разговаривала с Мартыновым, который стоял в обыкновенном своем костюме — он и во время танцев не снял длинного своего кинжала — и часто переменял позы, из которых одна была изысканнее другой. Лермонтов это заметил и, обратив наше внимание, стал что-то говорить по адресу Мартынова, а затем мелом, двумя-тремя штрихами, иллюстрировал позу Мартынова с большим его кинжалом на поясе. Но и Мартынов, поймав два-три обращенные на него взгляда, подозрительно и сердито посмотрел на сидевших с Лермонтовым. «Перестаньте, Михаил Юрьевич! Вы видите — Мартынов сердится», — сказала Эмилия Александровна. Под шумные звуки фортепьяно говорили не совсем тихо, а скорее сдержанным только голосом. На замечание Эмилии Александровны Лермонтов что-то отвечал улыбаясь, но в это время, как нарочно, Трубецкой, взяв сильный аккорд, оборвал свою игру. Слово poignard отчетливо раздалось в устах Лермонтова. Мартынов побледнел, глаза сверкнули, губы задрожали, и, выпрямившись, он быстрыми шагами подошел к Михаилу Юрьевичу и, гневно сказав: «сколько раз я просил вас оставить свои шутки, особенно в присутствии дам!» — отошел на прежнее место. «Это свершилось так быстро, — заметила Эмилия Александровна, — что Лермонтов мог только опустить крышку ломберного стола, но ответить не успел. Меня поразил тон Мартынова и то, что он, бывший на ты с Лермонтовым, произнес слово вы с особенным ударением. „Язык мой, враг мой!“ — сказала я Михаилу Юрьевичу. „Се nest rien: demain nous serons bons amis (это ничего; завтра уже мы вновь будем хорошими друзьями (фр.))!“ — отвечал он спокойно».