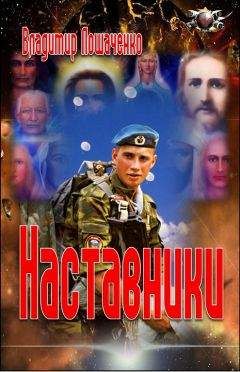Танцы продолжались — никто из присутствующих не заметил ничего из краткого объяснения. Даже Лев Пушкин не придал ему значения. Скоро стали расходиться, и никого не поразило, когда, выходя из ворот дома Верзилиных, Мартынов остановил за рукав Лермонтова и, оставшись позади товарищей, сказал сдержанным голосом по-французски то же, что было им сказано в зале: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень долго выносил ваши шутки, продолжающиеся, несмотря на неоднократное мое требование, чтобы вы их прекратили».
— Что же, ты обиделся? — спросил Лермонтов, продолжая идти во след за опередившими товарищами.
— Да, конечно, обиделся.
— Не хочешь ли требовать удовлетворения?
— Почему ж нет?!
Тут Лермонтов перебил его словами. «Меня изумляют и твоя выходка, и твой тон... Впрочем, ты знаешь, вызовом меня испугать нельзя... хочешь драться — будем драться».
— Конечно, хочу, — отвечал Мартынов, — и потому разговор этот может считаться вызовом.
Подойдя к домам своим, они молча раскланялись и вошли в свои квартиры. Как Лермонтов передал Столыпину о происшедшем, мы не знаем. Вообще нельзя не пожалеть, что до нас не дошло ничего письменного о поэте со стороны Глебова и особенно Столыпина, который в те дни был ближе всех к Михаилу Юрьевичу.
Мартынов, вернувшись, рассказал дело своему сожителю Глебову и просил его быть секундантом. Глебов тщетно старался успокоить Мартынова и склонить его на примирение. Особенное участие в деле принимали, конечно, ближайшие к сторонам молодые люди: Столыпин, князь Васильчиков и уже поименованный Глебов. Так как Мартынов никаких представлений не принимал, то решили просить Лермонтова, не придававшего никакого серьезного значения делу, временно удалиться и дать Мартынову успокоиться. Лермонтов согласился уехать на двое суток в Железноводск, в котором он вообще проводил добрую часть своего времени. В отсутствие его друзья думали дело уладить.
Как прожил поэт в одиночестве своем в Железноводске последние сутки — кто это знает! В обществе он бывал, как мы видели, всегда почти весел и шаловлив, на одиноких прогулках и при работе — погруженным в себя и до меланхолии грустен. Комментариями и лучшими истолкователями тогдашнего душевного состояния поэта, конечно, могут служить двенадцать его последних стихотворений. Предчувствием томимый, видит он себя в долине Дагестана с свинцом в груди недвижным, одиноким:
Глубокая в груди чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.
Один из тогдашних посетителей минеральных вод, товарищ поэта по школе Гвоздев поздно вечером встретил Михаила Юрьевича на одинокой прогулке. Он был мрачен и говорил о близкой смерти...
Одиноким вышел поэт на дорогу жизни и нигде не мог найти настоящего приюта. То сравнивает он себя с дубовым листом, который еще свежим и зеленым оторвался от ветки родимой:
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый,
Засох и увял он от холода, зноя и горя,
И вот, наконец, докатился до Черного моря.
У Черного моря чинара стоит молодая...
Но и она не принимает его: не пара он ее свежим листам! То чувствует себя поэт сильным и твердым, как утес, но сиротой в «пространстве мира»:
Одиноко
Он стоит; задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне...
Наконец, обдумывая вопросы жизни и бытия, один со своими мыслями, он чувствует, что и должен быть одиноким, если хочет «провозглашать любви и правды чистые ученья». Занималась заря юного дня. Зреющий поэт и человек вступал в новый фазис жизни. Он сознал себя и жаждал нераздельной всецелой отдачи себя творчеству и идеалу. Что в него ближайшие еще бешенее будут бросать каменья — это он понимал. Но уж это его не смущало.
Расчеты друзей, уговоривших Михаила Юрьевича удалиться в Железноводск, оказались неверными. Мартынов ко всяким представлениям оставался глух и больше хранил мрачное молчание. Между тем, все дело держалось не в особенном секрете. О нем узнали многие, знали и власти, если не все, то добрая часть их, и, конечно, меры могли бы быть приняты энергические. Можно было арестовать молодых людей, выслать их из города к месту службы, но всего этого сделано не было. Напротив, в дело вмешались и посторонние люди, как например Дорохов, участвовавший в 14 поединках. Для людей, подобных ему, а тогда в кавказском офицерстве их было много, дуэль представляла приятное препровождение времени, щекотавшее нервы и нарушавшее единообразие жизни и пополнявшее отсутствие интересов. Нет никакого сомнения, что Мартынова подстрекали со стороны лица, давно желавшие вызвать столкновение между поэтом и кем-либо из не в меру щекотливых или малоразвитых личностей. Полагали, что «обуздание» тем или другим способом «неудобного» юноши-писателя будет принято не без тайного удовольствия некоторыми влиятельными сферами в Петербурге. Мы находим много общего между интригами, доведшими до гроба Пушкина и до кровавой кончины Лермонтова. Хотя обе интриги никогда разъяснены не будут, потому что велись потаенными средствами, но их главная пружина кроется в условиях жизни и деятелях характера графа Бенкендорфа, о чем говорено выше и что констатировано столькими описаниями того времени.
Итак, попытка, удалив Лермонтова, дать успокоиться Мартынову, не удалась. Подстрекаемый ли другими или упорствуя тем больше, чем настойчивее хотели отклонить его от дуэли, Мартынов не уступал. Его тешила роль непреклонного, которую он принял на себя. Он даже повеселел и не раз подсмеивался над «путешествующим противником» своим. Пришлось принять решение дать дуэли осуществиться. Но все же из друзей Лермонтова никто не верил в ее серьезность. Все были убеждены, что противники обменяются выстрелами, подадут друг другу руки, и все закончится веселой пирушкой. Даже все было подготовлено к тому, чтобы отпраздновать в веселой компании счастливый исход. Сам Лермонтов говорил, что у него рука не поднимется на Мартынова и что он выстрелит в воздух. Это было сообщено и самому Мартынову, и никто не верил в серьезность его напускной торжественности.
15 июля было назначено днем для поединка. Дали знать Лермонтову в Железноводск. Ему приходилось ехать через немецкую колонию Каррас. Там должны были встретить его товарищи. Местом же для дуэли было назначено подножие Машука на половине дороги между колонией и Пятигорском. Ближайшие к поэту люди так мало верили в возможность серьезной развязки, что решили пообедать в колонии Каррас и после обеда ехать на поединок. Думали даже попытаться примирить обоих противников в колонии у немки Рошке, содержавшей гостиницу. Почему-то в кругу молодежи господствовало убеждение, что все это шутка, — убеждение, поддерживавшееся шаловливым настроением Михаила Юрьевича. Ехали скорее, как на пикник, а не на смертельный бой. Даже есть полное вероятие, что кроме четырех секундантов: князя Васильчикова, Столыпина, Глебова и князя Трубецкого, на месте поединка было еще несколько лиц в качестве зрителей, спрятавшихся за кустами — между ними и Дорохов.