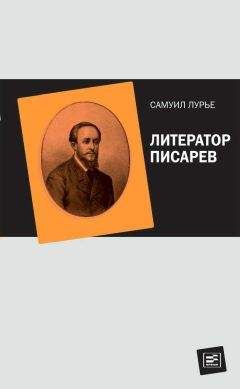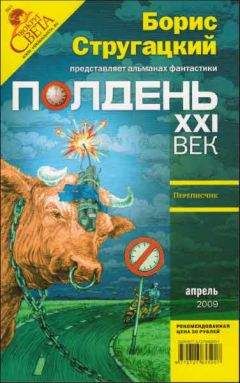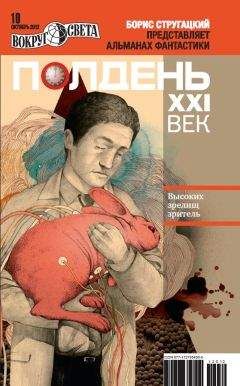— Словом, я вашего сына не оставлю, сударыня. И ручаюсь, что ежели он, в чем нет никакого сомнения, окажется достоин монаршей милости, то не позже как через полгода его освободят. Вы же знаете, в апреле или мае состоится свадьба цесаревича. Только и надо дотерпеть до весны, а там выйдет манифест, праздничный манифест об амнистии! Не сомневайтесь, так и будет, верьте слову князя Суворова!
Варвара Дмитриевна горячо благодарила и ушла хотя в слезах, но утешенная.
Суворов, получив рапорт генерала Сорокина, целую неделю не отвечал на него, а потом продиктовал письмоводителю отношение, в котором говорилось:
«При настоящих обстоятельствах, имея в виду неудобство препровождения политических арестантов для срочного заключения в Шлиссельбургскую крепость, я полагал бы оставить на время арестантов Писарева, Ольшевского и Ткачева в С.-Петербургской крепости».
Сорокин прочитал, пожал плечами, проскрежетал невнятное и махнул рукой, наказав, однако же, своему письмоводителю, чтобы он не забыл отметить в ведомости, что срочное заключение осужденного Писарева исчисляется со дня, когда эта вот бумага за подписью его светлости занесена в журнал входящих, — а именно с нынешнего дня, с восемнадцатого ноября.
Варвара Дмитриевна собралась в Грунец, а Вера — в Москву. Они пришли в крепость прощаться. Писарев был весел и уверял, что за работой не заметит, как пролетит время до весны, что в тюрьме только первая осень тяжка и первая весна, потом совершенно привыкаешь, тем более что задуман целый ряд статей, которые дай бог успеть приготовить до возвращения в Грунец, где он все будущее лето проведет купаясь и толстея.
— Пишите часто, обо всем, обо всем… И о Раисе. А главное — не унывайте. Все хорошо, и будет еще лучше. Кончилась неопределенность, кончилась в нашей жизни эта нестерпимо затянувшаяся глава! До весны — всего каких-нибудь сто дней. Двадцать листов напишу — и свободен! Но забавно как получилось: одна свадьба привела меня сюда, другая — выводит.
Глава тринадцатая
АПРЕЛЬ 1865 — АПРЕЛЬ 1866
В ночь на двенадцатое апреля, в час без десяти по местному времени (в исходе третьего — по петербургскому), в Ницце, на вилле Бермон, проговорив: «Стоп машина!», двадцатидвухлетний цесаревич, наследник престола Российской империи, великий князь Николай Александрович умер от болезни, которую лейб-медик Здекауер поименовал méningite cérébro-spinale, а век спустя назвали бы остеосаркомой. В предсмертном бреду цесаревич держал речь, обращаясь к каким-то депутатам, но не мог шевельнуть рукой: в одну вцепились отец и мать, в другую — принцесса-невеста и любимый брат Александр, отныне сам становившийся цесаревичем и наследником престола.
Тело доставили в Кронштадт морем, на фрегате «Александр Невский», в свинцовом гробу.
Двадцать пятого мая гроб перенесли с фрегата в крепостной Петропавловский собор. Двадцать восьмого — под перезвон со всех колоколен столицы — опустили в склеп.
Все эти дни работать над «Разрушением эстетики» было почти невозможно. Пушки неистовствовали, барабаны рявкали так, что захватывало дух, днем и ночью витали над крепостью рыдания хора, и помимо всего этого и вместе с этим всем крепость наполнилась звуками шагов и голосов множества людей, сливавшимися в невнятный шаркающий гул, и казалось, что там, за окном, замазанным белой краской, идет непрестанный дождь. А дождя не было, погода стояла пасмурная, но тихая. На прогулку не выводили, к сожалению; на дворе наверное было теплее, чем в каземате, где после недавней (девятнадцатого и двадцатого) бури с наводнением штукатурка на стенах и войлок на полу, не говоря уж о тюфяке на кровати, расползались от сырости.
А весна выпала славная: столько работы, столько надежд… Помимо написанных еще в декабре двух статей, с начала года отослано в редакцию еще семь, а всего более двадцати печатных листов, как и предполагалось.
И еще одна была радость: письма от Раизы. Формально она адресовалась к Варваре Дмитриевне, однако не скрывала, что хотела бы говорить с ним. И намекала, и прямо просила: передайте ему, скажите ему… Видно было, что внимательно читает «Русское слово» и поняла наконец, кем пренебрегала, кому предпочла отставного прапорщика. Но — характер известно какой: ни за что не признается, да и совестно. Поэтому дразнит, дерзит и без конца, к месту и не к месту, словно специально для того, чтобы свести с ума, отпускает рискованные, чуть не циничные шуточки, долженствующие обозначать, что она — дама, une femme mariée, и, как любит выражаться Щедрин, знает, в чем штука. И остроты эти звучат так странно, как если бы она говорила басом или у нее выросли вдруг усы… Хоть над матерью бы сжалилась, та переписывает покорно слово в слово, а сама терзается и ворчит, что такие игры с заключенным человеком безжалостны и до добра не доведут. Зря терзается, опасности никакой, а хоть бы и была: лишь бы Раиза не замолкала, — прежний голос к ней вернется. Остротами нас не проймешь, а вот без нее — тоска и помешательство.
Но теперь она сама то и дело повторяет, что отношения возможны, что они существуют, что она ими дорожит! Вот хоть последнее письмо:
«…Maman, да скажите же ради бога, когда ж это Митя-то поумнеет? Надо иметь его объемистую голову, чтобы вмещать в нее рядом с его обширным и всесторонним умом такое юродство, такое нелепое ребячество, какие высказываются во всех его отношениях ко мне. Те несбыточные надежды и идеи, о которых Вы пишете, вызвали во мне сначала раздражение и досаду, а потом смех. Так и хочется сказать: mais, mon pauvre garçon, rappellez votre esprit égare, et parlons raison[24].
И как он не понимает, что нельзя же безнаказанно ставить женщину в такое неловкое и комическое положение, что после каждого слова надо в скобках вставлять: а все-таки я люблю Евгешу, а не тебя, и если бы даже разлюбила Евгешу, то все же тебя не полюблю. Ведь если в ругательстве над Катковым и в похвале Брему он мог усмотреть надежды для себя, то глумление над Станицким может показаться ему признанием в любви; а неодобрение музыки, чего доброго, равносильно приглашению в спальню. Хорошо, что с этой последней стороны я гарантирована тем, что люблю музыку и ратовать против нее не стану. Ведь это сумасбродство. Ведь этой манией он напрашивается в субъекты юмористических романов Теккерея и Диккенса. Что против него Сэдрифт, ежегодно повторяющий свое предложение, — мальчишка и щенок.
…И наконец, как-таки он не разочтет, что своим нелепством вынудит прекращение всяких возможных отношений. Пока он в области отвлеченностей, или, по крайней мере, говорит о посторонних предметах, он для меня умный, развитой человек и приятный собеседник. Как только речь коснулась меня, — маниак. Сейчас понесет чепуху непроходимую. Возможны ли тут какие-нибудь разумные отношения. Ну как я скажу, например, что с особенным удовольствием читала последнюю часть „Нерешенного вопроса“, что она за живо затрагивает. Батюшки светы! Что же бы то было! J’aurais été considérée plus amoureuse que l’amour et plus passionée que la passion[25]. Да мало того, а что же, если бы пришлось признаваться, что рассказ „Записки гувернантки“, о котором я Вам говорила, так сходится во многом с этою последнею частью, точно я спетую песню на ноты положила, или наоборот. Ну что же бы тогда-то он сказал?! N’irait-il pas s’imaginer que je l’ai violé, dominée par ma passion?[26] — Нет, право, надо же когда-нибудь образумиться! Ведь я не в первый раз надсаживаюсь, стараясь убедить его, что сходство убеждений еще ничего не значит. Несколько людей одинаковых убеждений будут все-таки разниться между собою, потому что всякий имеет свою индивидуальность. Да нет, скучно и толковать… Взять чулок вязать — будет полезнее.